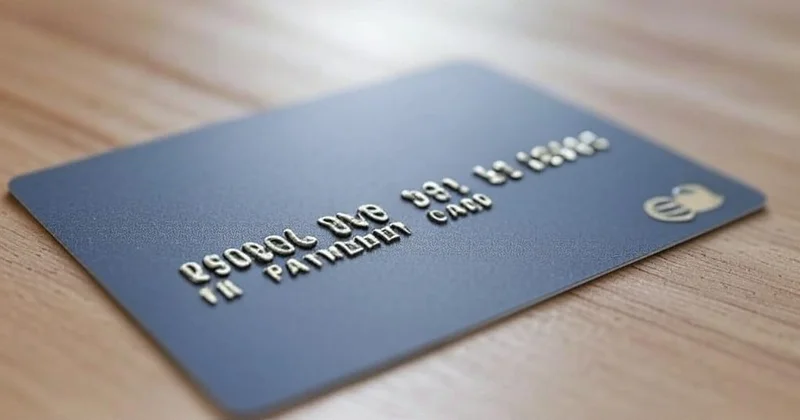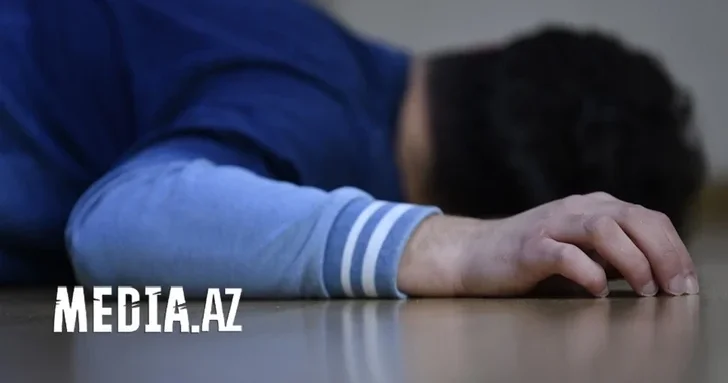Тень Агрыдага над Ереваном: миф отступает, дипломатия наступает АНАЛИЗ от Эльчина Алыоглу
Согласно информации сайта Day.az, сообщает Icma.az.
Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az
Агрыдаг (армяне называют ее "Арарат") исторически занимал особое место в армянском национальном самосознании, хотя географически всегда находился за пределами современных армянских границ. Этот стратовулкан высотой 5165 метров, расположенный на территории Турции в 32 км от армянской границы, стал символом ностальгии и исторических претензий. Решение правительства Армении от 11 сентября 2025 года об удалении изображения Агрыдага с визовых штампов, вступающее в силу 1 ноября, представляет собой не просто техническое изменение, а глубокий символический жест в сторону нормализации отношений с Турцией. Этот шаг следует рассматривать в более широком контексте армяно-турецких отношений и процесса нормализации на Южном Кавказе.
Историческая принадлежность Агрыдага различным государствам прослеживается четко: после распада Российской империи по Карсскому договору была закреплена за Турцией. СССР официально отказался от территориальных претензий на этот регион в 1953 году. Несмотря на это, армянская государственная символика, включая герб страны, продолжает использовать изображение горы, что создает постоянный источник напряженности в отношениях с Турцией.
11 сентября 2025 года - дата, которую в Ереване предпочли бы запомнить как день осторожной надежды, а не как очередную страницу политических уступок. В это утро, пока здания у подножия ереванского Каскада утопали в осенней дымке, кабинет министров Армении принял на первый взгляд незаметное, но на деле - символически насыщенное решение: изменить визуальные штампы, используемые при пересечении границы. С них исчез образ Агрыдага, той самой библейской горы, которую армянская политическая мифология десятилетиями пыталась присвоить, словно чужое солнце, прислонённое к окну.
Этот шаг был не просто бюрократической корректировкой. Это - жест, вырезанный скальпелем из плоти постсоветской ментальности. Это символический демонтаж одной из колонн маразматического армянского национал-романтизма, давно оторвавшегося от реалий и дрейфовавшего в сторону исторических грёз. Убрать Агрыдаг со штампов - всё равно что вынуть фрагмент из витража собора: света меньше не станет, но облик уже не тот.
Особенность этого решения заключалась не только в содержании, но и в тайминге - тщательно рассчитанном моменте. Оно было принято всего за день до визита в Иреван специального представителя Турции Сердара Кылыча. Совпадение? В дипломатии не бывает совпадений - бывает сигнал. И этот сигнал был услышан в Анкаре, в Баку и в Вашингтоне. Никол Пашинян, как дирижёр на перекрёстке геополитических симфоний, подал ноту - ноту готовности к новому политическому контрапункту.
Как язвительно заметил соучредитель партии "Земля для жизни" Месроп Аракелян, на новых штампах осталось слово "Армения". И в этом - парадокс. Символ ушёл, но имя осталось. Это не тотальный отказ, а хирургически точное изъятие - как удаление татуировки, сделанной в юности под влиянием идеологических снов. "Символика - это не истина, а её отражение в мутной воде", - словно вторит ему тень Монтескье из глубин истории.
Изъятие Агрыдага из официальной визовой символики - это дипломатическая алхимия. Армения, по сути, подаёт знак: "мы готовы к откровенному разговору, без идеологического макияжа". Это шаг из прошлого в предпосылки будущего, где штампы - не только в паспортах, но и в головах - постепенно теряют актуальность. И если национальный миф - это якорь, то сейчас Ереван осторожно поднимает его с морского дна.
Но почему именно сейчас? Ответ лежит в контексте геополитических волн, пронзающих регион. Августовская декларация в Вашингтоне, подписанная лидерами Азербайджана, Армении и США, зафиксировала намерение открыть Зангезурский коридор - символ будущего сопряжения, а не прошлого отторжения. Уже 7 сентября армяно-турецкие делегации встретились на пограничном переходе Алиджан-Маргара - месте, где асфальт ещё хранит следы замороженных десятилетий.
Именно в этом контексте и нужно рассматривать исчезновение Агрыдага со штампов: как дипломатический жест доброй воли, как попытку сбросить часть символического груза, мешающего движению. Это не капитуляция - это разминирование поля перед переговорами.
Если проводить параллели, то можно вспомнить, как Германия в конце 20 века избавлялась от имперской символики в официальных документах, стремясь к новой идентичности - постнациональной, европейской, ответственной. Или как Испания пересматривала роль франкистской символики в общественном пространстве, стараясь не вычеркнуть, а переработать.
Армения, несомненно, ещё только пробует на вкус эту сложную метаморфозу. Визовые штампы - не главное, но симптоматичное. Это как если бы актёр на сцене сменил костюм, но продолжал играть ту же роль. Сигнал публике ясен: перемены идут, но сценарий пока тот же.
И всё же - это движение. Движение от символа к смыслу, от мифа к интересам, от прошлого - к осторожному будущему.
Когда власти Армении приняли решение исключить название Агрыдага на армянском, т.е., слово "Арарат" из официального штампа в загранпаспортах, армянский реваншизм взвыл, как раненый зверь, загнанный в угол реальностью. Это была не просто административная мера - это был удар в самое сердце коллективной мифологии, в святая святых армянской псевдонациональной идентичности, в ту фантомную боль, которую Ереван сам себе культивировал десятилетиями. Истерика, с которой армянские националисты, блогеры и политики встретили эту новость, напоминала не политическую реакцию, а обряд экзорцизма в плохом спектакле.
Виртуальный "Арарат" - тот самый Агрыдаг, который с незапамятных времён стоит на турецкой территории и ни на секунду не принадлежал Армении как государству - давно стал неотъемлемым символом армянского ирредентизма. Это как если бы Польша вставила Вильнюс в штамп, или Италия - Корфу. В цивилизованной практике такие вещи называют дипломатическим маразмом, в армянской - "национальной гордостью".
Ведь речь не просто о горе - речь о вымышленной географии, проштампованной в документе, удостоверяющем личность. Армянский загранпаспорт с горой Агрыдаг - это как документ шизофреника, у которого в графе "место рождения" написано: "Империя Атлантиды". До последнего времени этот штамп с горой, уходящей в закат, оставался тихим актом пассивной агрессии - беззвучным, но внятным орудием идеологической войны, в которой "территория" всегда важнее "реальности".
Решение об изъятии штампа власти объяснили просто и прагматично - международное право, дипломатические соображения, туристическая виза и всё такое. Но реваншисты восприняли это как предательство эпохального масштаба. Они кричали, что "Армения сдаёт символы", "нас лишают мечты", "отрезают от святынь". Публикации с заголовками вроде "Арарат вычеркнули из истории" или "Гора теперь турецкая и на бумаге" заполонили местные сайты. Кто-то и вовсе заявлял, что "теперь мы ничем не отличаемся от Азербайджана" - как будто логика и дипломатия стали заразными.
Хотя подобный шаг в мировой практике - нормальный процесс отделения идеологии от институциональности. Когда Германия отказалась от гитлеровской символики, она не предала себя - она спасла себя. Когда Хорватия изменила гимн и флаг после распада Югославии, она не забыла свою культуру - она адаптировалась. Но армянский реваншизм не умеет адаптироваться. Он может только цепляться - за образ, за миф, за камень, за штамп, за обломок утопии. Любое прикосновение к этим реликвиям он воспринимает как святотатство.
В этом контексте штамп с Агрыдагом стал эквивалентом охранной грамоты на самообман. Его изъятие - это как операция по удалению опухоли, от которой пациент отказывается, потому что "она родная".
Если называть вещи своими именами, армянский реваншизм - это не про "великую историю", а про синдром утраты. Он питается не фактами, а тоской. И гора Агрыдаг, как бы высока она ни была, является не вершиной гордости, а надгробием надежд. В этом смысле штамп в паспорте - это был последний фетиш, который можно было демонстрировать миру, как кольцо внука Атлантов.
Когда армянские власти убрали этот фетиш, они ненароком запустили процесс секуляризации мифа. И это страшно для любого фанатика - потерять икону, пусть даже она и нарисована на паспорте. Для реваншистов это всё равно, что вычеркнуть Армению из Армении.
С точки зрения здравого смысла, изъятие Агрыдага из армянского паспорта - это маленькая, но важная победа разума над мифом, дипломатии над фетишизмом. Это сигнал, что, возможно, хотя бы в части формальностей Ереван начал осознавать пределы возможного. Но, как показала реакция армянских реваншистов, даже скромный шаг в сторону нормализации может вызвать такой взрыв абсурда, что театру абсурда придётся брать уроки у армянских телеграм-каналов.
Будущее покажет, станет ли это началом долгого и болезненного процесса отказа от иллюзий. Но уже сейчас ясно: пока реваншизм жив - каждый штамп, каждый символ, каждый камень будет превращён в фетиш. А значит, война за прошлое, увы, всё ещё не окончена. Даже если на ней - лишь чернила и бумага.
Решение властей Армении убрать изображение Агрыдага с визовых штампов выглядит как жест вежливости, но история Южного Кавказа учит: символами не живут, символами не прокладывают дороги, не строят железные линии и не открывают рынки. Без реальных шагов - отказа от реваншизма, искреннего признания современных границ и готовности к компромиссам - любые декоративные перемены останутся пустыми.
Армения стоит на историческом перепутье. Сегодня у нее есть шанс впервые за тридцать лет превратиться из изолированной территории в полноценного игрока региональной архитектуры. Экономика страны с ВВП около 21 млрд долларов не выдерживает конкуренции в условиях закрытых границ и блокированных маршрутов. Но участие в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг способно принести Армении миллиардные дивиденды, создать десятки тысяч рабочих мест и обеспечить доступ к энергетическим ресурсам.
Речь идет не о "сдаче позиций", а о выживании и развитии. Турция и Азербайджан - крупнейшие экономические центры региона, а присоединение к их инициативам означает для Армении выход из замкнутого круга зависимости от диаспоры и кредитов. Любая попытка отложить этот выбор - это годами упущенные инвестиции, тысячами потерянные рабочие места и еще глубже уходящая трещина в обществе.
Мир в регионе невозможен без подписания мирного договора и открытия границ. Это понимали и в 1918-м, и в 1994-м, и понимают сегодня. Отказ от мифов о "Великой Армении" и переход к прагматичной политике сотрудничества станет для Армении единственным шансом вписаться в XXI век.
Символы могут открывать дорогу, но только реальная политика делает путь проходимым.
Армении предстоит решить: останется ли она заложницей исторических обид или войдет в новое время как партнер, а не как вечный оппонент. От этого выбора зависит не только ее будущее, но и долгожданный мир для всего Южного Кавказа.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:78
Просмотров:78 Эта новость заархивирована с источника 15 Сентября 2025 08:00
Эта новость заархивирована с источника 15 Сентября 2025 08:00 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые