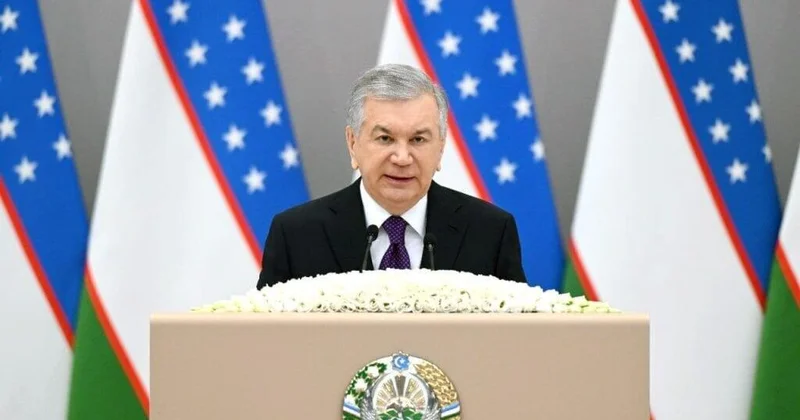Где тут логика?
Icma.az, ссылаясь на сайт Бакинский рабочий, отмечает.
«Маршрут Трампа» восстановит деятельность коридора Север-Юг, но Россия и Иран почему-то против
Визит Президента Азербайджана в Вашингтон и подписание ряда ключевых документов стали поворотным моментом не только для двусторонних отношений между Азербайджаном и США, но и для всей геополитической архитектуры региона Южного Кавказа.
Среди подписанных соглашений - договоренности, касающиеся стратегического партнерства, а также восстановление транспортно-логистического маршрута, получившего в прессе условное название «маршрут Трампа», который фактически активизирует давно обсуждаемый, но до сих пор фрагментарно реализуемый транспортный коридор Север-Юг.
Однако, на фоне кажущейся очевидной выгоды для региональных стран, включая Россию и Иран, с их стороны звучат публичные заявления, демонстрирующие обеспокоенность или даже прямое неприятие этих процессов. Возникает закономерный вопрос: почему восстановление столь важного маршрута вызывает противодействие со стороны игроков, которые исторически выступали за развитие транзитного потенциала региона? Где проходит грань между прагматикой и геополитической конкуренцией?
Мы продолжаем публиковать мнения ведущих экспертов и политиков по вопросам, касающимся будущего региона и внешнеполитической линии Азербайджана. На этот раз своими оценками происходящего в эксклюзивном интервью с «Бакинским рабочим» поделился экс-министр иностранных дел Азербайджана, политический аналитик Тофик Зульфугаров. В беседе он дал подробную оценку Вашингтонским договоренностям, объяснил, как изменилась позиция США при администрации Трампа, и почему сопротивление России и Ирана восстановлению транспортного маршрута выглядит, мягко говоря, нелогично.
- Судя по итогам визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, можно говорить об изменении подхода нынешней администрации США к Азербайджану по сравнению с предыдущим руководством. С чем это связано: с принципиальным неприятием Дональдом Трампом политики Джо Байдена в целом, или есть иные причины такого разворота?
- Это, скорее, связано с тем политическим стилем, который Дональд Трамп предложил американскому обществу и благодаря которому одержал победу на выборах. Суть его подхода заключается в следующем: и во внутренней, и во внешней политике должны поддерживаться исключительно те инициативы, которые служат национальным интересам Соединенных Штатов, а не интересам отдельных групп, в том числе находящихся под тем или иным иностранным влиянием.
Этот политический стиль нашел отражение и в подходе к Азербайджану. Во время встречи в Вашингтоне мы получили четкий сигнал: США настроены на развитие всесторонних отношений с нашей страной. Причин для этого несколько - в том числе растущий интерес Вашингтона к укреплению связей с государствами Южного Кавказа и Центральной Азии.
Стабильность в Южном Кавказе сегодня приобретает особую важность. Как известно, как на севере, так и на юге от нашего региона продолжаются серьезные конфликты - фактически, идут военные действия. В таких условиях обеспечить устойчивость и безопасность на Южном Кавказе без активного участия Азербайджана просто невозможно.
Безусловно, некоторые аналитики расценивают текущую внешнеполитическую линию Дональда Трампа, включая подход к Азербайджану, как своего рода противовес курсу, проводимому администрацией Джо Байдена. И с этим мнением трудно не согласиться. Однако при всей внешней экспрессивности и кажущейся спонтанности его решений, нельзя упускать из виду главное: Трамп - политик с большим опытом, обладающий четким пониманием глобальных процессов. Его действия, как правило, укладываются в определенную логическую систему, пусть и нетрадиционную по форме, в основе которой лежит стремление к укреплению роли США в глобальной политике.
- Можно ли говорить о том, что между Азербайджаном и США действительно формируются отношения стратегического партнерства? Или же существует риск, что со сменой администрации в Белом доме - например, в случае возвращения демократов к власти - эти отношения снова охладятся?
- Все будет зависеть от того, какие приоритеты будут определять политику тех американских лидеров, которые окажутся у власти в тот момент. Я не провидец, чтобы предсказывать будущее. Однако если в период правления Трампа Соединенные Штаты действительно укрепят свое влияние и экономическую мощь, а американские граждане ощутят реальное улучшение благосостояния и усиление роли государства, то нынешняя линия может стать не временной, а устойчивой и долгосрочной основой американской внешней политики.
Что касается непосредственно меморандума о создании рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, следует отметить, что подобные документы ранее уже подписывались Вашингтоном с рядом других стран - в частности, с Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и другими. Однако в случае с Азербайджаном ситуация имеет свою специфику. У нас уже существовал схожий формат сотрудничества - так называемый расширенный диалог по вопросам обороны и безопасности. Этот формат действовал еще с конца 1990-х годов: между профильными структурами двух стран велась постоянная коммуникация, регулярно проводились встречи на высоком уровне и обсуждался широкий спектр вопросов в сфере безопасности.
С Арменией у США подобного формата взаимодействия не существовало, поскольку эта страна долгое время являлась военным союзником России и членом ОДКБ. И, по сути, остается таковой до сих пор. Именно поэтому можно ожидать, что разрабатываемый в ближайшие полгода документ между Азербайджаном и США будет более масштабным и содержательным. Азербайджан, как известно, де-факто и де-юре является военным союзником Турции - страны-члена НАТО, и это накладывает отпечаток на всю архитектуру региональной безопасности. Разница в подходах к оборонной политике очевидна. Соответственно, и потенциал будущей Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США может быть существенно шире, чем у аналогичных документов, подписанных, например, с Арменией в последние недели администрации Байдена. Я убежден, что на этом направлении мы вправе ожидать серьезных, содержательных и позитивных решений.
- На ваш взгляд, после парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией прочный мир действительно достигнут, или есть основания полагать, что премьер-министр Пашинян вновь затянет процесс окончательного подписания?
- Если говорить о документах, подписанных в Вашингтоне, то в первую очередь стоит выделить Трехстороннюю декларацию. Это действительно серьезный шаг. Как отметил Президент Ильхам Алиев, декларация зафиксировала стремление обеих стран к миру - и важно, что это произошло в столице ведущей мировой державы, в присутствии Президента Дональда Трампа. Все это придает документу не только символическую, но и политическую значимость. Содержательно декларация выражает общую волю сторон к переходу от постконфликтного состояния к этапу устойчивого урегулирования.
Что касается самого мирного договора, то, надо понимать, он носит рамочный и всеобъемлющий характер. Азербайджанская сторона добилась того, чтобы ключевым условием его вступления в силу стало устранение Арменией территориальных претензий, закрепленных в ее конституции. Документ парафирован министрами иностранных дел двух стран, но это не означает его окончательного юридического принятия. Подписание возможно только после того, как армянская сторона выполнит свое домашнее задание - в первую очередь, внесет соответствующие изменения в основной закон.
Таким образом, в связке с Трехсторонней декларацией, сам договор представляет собой своего рода переходный механизм. Он фиксирует достигнутые договоренности и при этом сохраняет политическое давление на Армению до выполнения всех предусмотренных условий. Это шаг вперед, но не окончательный мир. Все будет зависеть от дальнейших действий Иревана.
Что касается дальнейших действий Пашиняна в отношении подписанных в Вашингтоне документов, то, учитывая как место их подписания - в штаб-квартире одной из самых влиятельных стран мира, так и участие в этом процессе Президента США, трудно переоценить политическую и символическую значимость момента. Официальный Иреван должен ясно осознавать степень ответственности, которую на себя взял. Если Армения действительно заинтересована в установлении прочного мира, то оставшееся условие - внесение изменений в конституцию - будет выполнено. В противном случае мы увидим продолжение тактики затягивания, которая, как и раньше, неизбежно повлечет за собой соответствующие последствия.
Хочу особо подчеркнуть, что внесение изменений в конституцию Армении требует проведения референдума. Это, в свою очередь, означает, что перед голосованием необходимо организовать всенародное обсуждение всех предлагаемых поправок в основной закон. Таким образом, армянское общество неизбежно вступит в открытую и, возможно, острую дискуссию по ключевому вопросу: какой путь выбрать стране - путь реваншизма, с сохранением территориальных претензий и политической конфронтации, или путь примирения и устойчивого мира с Азербайджаном. И только после того, как армянское общество ответит на этот ключевой вопрос, можно будет делать обоснованные выводы о будущем армяно-азербайджанских отношений. Именно в этом и заключается принципиальная позиция Баку, который настаивает на выполнении данного условия как гарантии устойчивости мира. Мы прекрасно понимаем политические риски: Пашинян может потерять власть на следующих выборах, и его место вполне способен занять популист или радикал, который снова поднимет тему территориальных претензий и начнет эксплуатировать реваншистские настроения. История армяно-азербайджанского конфликта уже знает немало таких примеров.
- Статья VII мирного договора гласит, что Азербайджан и Армения не должны размещать вдоль своей общей границы силы какой-либо третьей стороны. Означает ли это, что миссия ЕС должна быть выведена из приграничной с Азербайджаном зоны?
- Полагаю, что трактовать озвученный вами пункт можно только однозначно. У Армении действительно крайне запутанная геополитическая ситуация: армянские власти допустили на свою территорию силы, которые в глобальном масштабе являются стратегическими противниками друг для друга. К примеру, в непосредственной близости от так называемого «маршрута Трампа» по-прежнему остаются российские пограничники, охраняющие армяно-иранскую границу.
Кроме того, в последнее время из России и Ирана все чаще звучат заявления о том, что НАТО якобы приближается к их границам на Южном Кавказе. Однако вызывает недоумение тот факт, что эти претензии начали звучать только сейчас - ведь уже около трех лет на территории Армении действует «гражданская миссия» Евросоюза. А кто, в сущности, составляет основу ЕС? Разве не страны - члены НАТО? Возникает закономерный вопрос: если эта миссия не вызывала беспокойства раньше, то с чего вдруг ее присутствие стало проблемой теперь? Особенно учитывая, что на первых этапах своей деятельности представители миссии ЕС получали разрешения на передвижение и контрольные поездки от российских пограничников, которые тогда же осуществляли контроль вдоль условной армяно-азербайджанской границы. Это говорит о том, что в регионе распространяется все больше политически мотивированных и противоречивых спекуляций. И заявления о «приближении НАТО» выглядят скорее как попытка создать искусственный геополитический ажиотаж, нежели отражение реальной угрозы.
То же самое касается Ирана. К примеру, Тегеран не возражал против присутствия той же миссии ЕС, однако когда речь зашла о запуске так называемого «маршрута Трампа», Тегеран внезапно выступил против. Возникает резонный вопрос: где здесь логика?
Все эти возражения против Зангезурского коридора вызывают по меньшей мере недоумение. В частности, данный маршрут открывает транзит не только по линии Восток-Запад, но восстанавливается железнодорожное сообщение по коридору Север-Юг. Достаточно вспомнить, как в советское время в городе Джульфе находился стык железных дорог СССР и Ирана. По сути, с запуском «маршрута Трампа» возобновляется маршрут Север-Юг. Спрашивается, что не устраивает недоброжелателей данного проекта? Сколько лет говорили о необходимости строительства железной дороги с целью восстановления транспортной связки Север-Юг, а теперь, когда эта связка наконец заработает благодаря «маршруту Трампа», она вдруг не соответствует интересам Ирана и России. Почему? Не ясно.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:138
Просмотров:138 Эта новость заархивирована с источника 13 Августа 2025 16:20
Эта новость заархивирована с источника 13 Августа 2025 16:20 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2025 Все права защищены
TDSMedia © 2025 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые