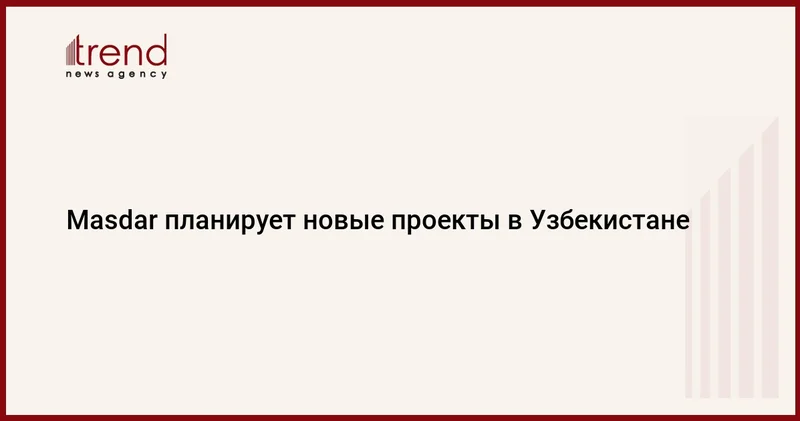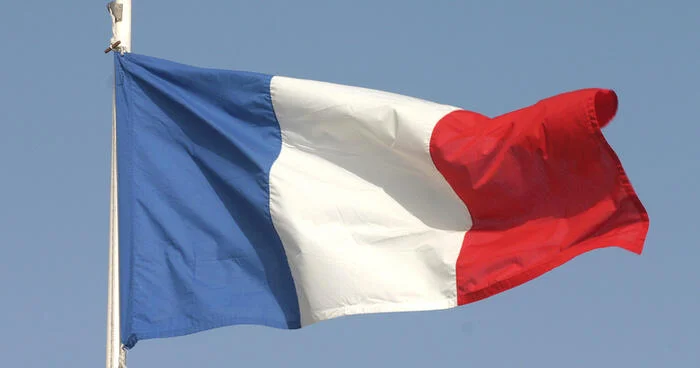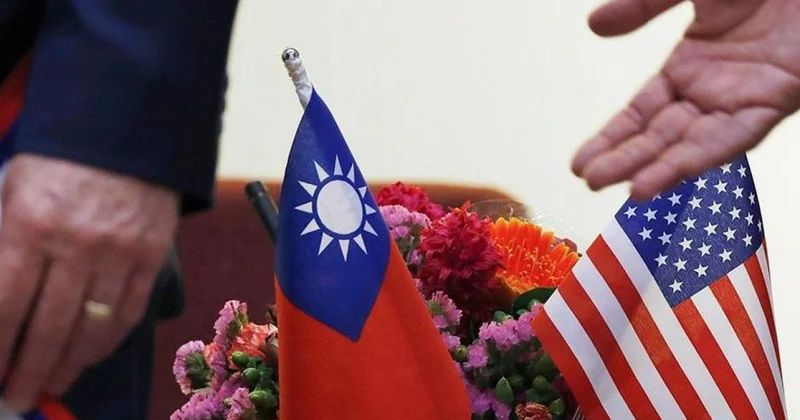Когда дипломатия превращается в шантаж: зачем ЕС пытается переписать грузинский суверенитет АНАЛИЗ от Baku Network
Как передает Icma.az со ссылкой на сайт Day.az.
Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network
На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Запад пытается давить на Грузию.
Day.Az представляет полный текст статьи:
В самом сердце Южного Кавказа, на скалистом берегу Черного моря, Грузия сегодня снова оказывается в эпицентре чужой политической игры. Однако на этот раз давление на Тбилиси исходит не с востока - от России, и не с юга - от региональных конфликтов. Давление идёт с той самой стороны, куда Грузия десятилетиями стремилась - с Запада. Оттуда, где обещали уважение к демократическому выбору, но всё чаще навязывают диктат ангажированной морали и двойных стандартов.
Недавнее заявление посла Германии Петерa Фишера в Тбилиси стало не просто дипломатическим выпадом. Это был акт публичного давления, почти ультиматум. Дипломат усомнился в "искренности" европейского курса Грузии, обвинив власти в "лжи о Евросоюзе" и в критике, которая якобы несовместима с устремлениями к членству. Формально - это претензия к риторике. По сути - это попытка поставить страну на колени, внушить: путь в Европу возможен лишь через капитуляцию, отказ от собственного достоинства, памяти и выбора.
Фишер говорит: "Если вы хотите вступить в такую организацию, не стоит плохо о ней говорить". Но неужели желание быть частью союза автоматически лишает народ права на критику? Где тот демократический фундамент, на котором, по утверждению европейцев, стоит их цивилизация? Или для стран-кандидатов он отменяется?
Выступления Фишера давно вышли за рамки дипломатической сдержанности. Он больше напоминает активиста с трибуны, чем посланника федеративного правительства Германии. Его публичные нападки на ведущие телеканалы, требования объяснений, обвинения в "ложной информации" - всё это напоминает поведение фигуры, действующей внутри грузинской политики, а не вне её. Он требует доказательств, что поддерживает оппозицию. А разве западные гранты, политическое консультирование, участие в протестной повестке не являются красноречивыми доказательствами вовлечённости?
Между тем Германия через своё внешнеполитическое ведомство потребовала от Грузии... изменить политический курс. Не посол - а целая страна. Это уже не дипломатия, а геополитическое вмешательство под благовидным предлогом.
Всё это происходит на фоне попыток Тбилиси сохранить нейтралитет в условиях глобальной конфронтации. Грузия отказалась открывать второй фронт против России. Отказалась становиться жертвой чужих геополитических игр. Запад не простил.
Законы об иноагентах, борьба с ЛГБТ-пропагандой, запрет транснационального диктата - всё это для либерального Берлина стало "откатом от демократии". Но разве право на консервативную политику не есть суть настоящего политического выбора? Или демократия для Брюсселя и Берлина существует лишь до тех пор, пока ты следуешь их лекалам?
Скандальное заявление спикера парламента Шалвы Папуашвили об участии французского посольства в финансировании радикальных групп лишь добавило маслу в огонь. По его словам, эти группы маскируются под туристические организации, а на деле - готовят сценарии дестабилизации. А как иначе объяснить столь плотную координацию между европейскими дипломатами и антиправительственными акциями?
Это не паранойя. Это холодный расчёт. Западные посольства всё чаще выступают не как посредники, а как штабы давления, в которых политические интересы Запада подаются под соусом "европейских ценностей".
Риторика как инструмент подмены
Когда дипломаты, призванные быть посредниками и хранителями норм Венской конвенции, начинают говорить языком ультиматумов, а рассуждения о правах и свободах подменяются требованиями "нелицемерной любви" к Европейскому союзу - это уже не дипломатия, а политическая технология. И именно с этой технологией сталкиваются сегодня такие страны, как Грузия и Азербайджан, заявляющие о своей европейской ориентации, но не готовые платить за неё политическим самоуничтожением.
На первый взгляд, вступление в Европейский союз - это технический процесс. Он должен опираться на чётко зафиксированные критерии: так называемые Маастрихтские (впервые сформулированы в 1992 году) и Копенгагенские (1993 год). Они включают:
Стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, права человека; Функционирующую рыночную экономику; Способность взять на себя обязательства, вытекающие из членства, включая соблюдение всех норм acquis communautaire (права ЕС).Однако в последние годы процесс расширения ЕС всё чаще оказывается политизированным и избирательным. В 2022-2023 годах статус кандидата получили Украина и Молдова, несмотря на то, что, по оценке Freedom House, их институциональная зрелость оставалась спорной: Украина получила в индексе 6,61 из 7 возможных баллов по уровню коррупции, Молдова - 6,07, где 7 означает наиболее коррумпированную систему. При этом Грузия, стабильно демонстрирующая гораздо более устойчивые институты по многим показателям (например, 4,36 в том же индексе), в 2022 году такой статус не получила.
Вопрос: если не объективные критерии решают судьбу интеграции, то что?
Ответ - лояльность. Но не к ценностям, а к текущей политической повестке ЕС. В случае Грузии это означает: необходимость отказываться от законов об иностранных агентах, не допускать консервативных инициатив в сфере семейной политики, согласовывать медиариторику с брюссельскими канонами, не проявлять нейтралитет по вопросам войны в Украине.
В апреле 2025 года посол Германии в Тбилиси Петер Фишер публично заявил:
"Грузия хочет вступить в ЕС, но одновременно распространяет ложную информацию о ЕС. Так нельзя. Нельзя вступать в организацию и одновременно её критиковать".
Эта реплика - яркий пример того, как дискуссия о реформах подменяется требованием политической декларативной лояльности. Но нигде в Копенгагенских критериях не указано, что кандидат в ЕС обязан хвалить союз, воздерживаться от критики или демонстрировать идеологическую симпатию.
Более того, по данным социологического исследования NDI Georgia (National Democratic Institute) за март 2025 года, 81% грузин поддерживают вступление в ЕС, но лишь 27% одобряют политику ЕС в отношении Грузии. Это свидетельствует о сложной, зрелой общественной позиции: граждане хотят интеграции, но не любой ценой.
В этом контексте позиция европейских дипломатов, настаивающих на безоговорочной поддержке ЕС без права на дискуссию, превращается в риторическую мина, цель которой - подорвать легитимность независимого курса правительства и внушить обществу, что любое несогласие с Западом - это путь к изоляции и поражению.
Делегитимация власти через риторику - давно отработанный приём. Он применялся на Балканах в 1990-х, в Восточной Европе в 2000-х, в Украине с 2013 года. Суть подхода проста:
Создать ложный бинарный выбор: либо вы за ЕС и выполняете всё, либо вы враг демократии. Представить любое независимое мнение как "пророссийское" или "популистское". Поддерживать медийно и финансово только те группы, которые озвучивают "правильные" лозунги.
В Грузии это выливается в наращивание финансирования НПО и медиа с открытой антивластной позицией. По данным отчёта Transparency International Georgia за 2024 год, 57% всех внешних грантов в гражданский сектор направляются структурам, находящимся в оппозиции к действующей власти. При этом общественные движения, выступающие за нейтралитет, за традиционные ценности и суверенитет, почти полностью лишены доступа к западным грантам.
Чтобы понять подлинную картину, достаточно взглянуть на международные рейтинги:
World Bank Doing Business 2020: Грузия занимает 7-е место в мире, опережая Францию и Германию по лёгкости ведения бизнеса. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2023: Грузия - 41-е место, лучшая в регионе Южного Кавказа и выше, чем Италия (42) и Греция (49). Index of Economic Freedom 2024 (Heritage Foundation): Грузия занимает 26-е место, опережая Японию и Бельгию.Эти показатели свидетельствуют не об "откате от демократии", а о зрелости и системной реформаторской политике. Однако в западной риторике они почти не упоминаются - потому что не вписываются в образ нужной пропагандистской жертвы, которую надо "спасать".
Самое тревожное заключается в том, что подменяя диалог шантажом, западные дипломаты в действительности не помогают, а подрывают доверие к самим себе. Критика ЕС в Грузии и Азербайджане усиливается не из-за "враждебных телеканалов" или "популистов", а из-за реального несоответствия между заявляемыми принципами и политикой двойных стандартов.
Эти действия уже имеют последствия. Согласно опросу IRI (International Republican Institute), апрель 2025 года, доверие к ЕС в Грузии упало с 62% в 2021 году до 49%. Среди молодёжи уровень скепсиса достиг 42%, что говорит о растущем недоверии даже в проевропейски ориентированной среде.
Игра против Южного Кавказа
На слушаниях в Сенате США, состоявшихся в мае 2025 года в Комитете по международным отношениям, сенатор-республиканец Марко Рубио, известный своей жёсткой позицией по вопросам внешней политики и авторством ряда антикитайских и антииранских инициатив, получил вопрос от коллег: следует ли Вашингтону рассмотреть введение санкций против Грузии и Азербайджана? В зале не последовало резких аплодисментов или моментального решения. Но сам факт того, что такой вопрос был озвучен на высоком уровне, не является случайностью - он отражает тренд. Причём - глубоко тревожный.
Речь идёт не о сиюминутной реакции на конкретные законы в Тбилиси или на действия Азербайджана по стабилизации Карабаха. Перед нами фрагмент куда более масштабного проекта по геополитической реконфигурации Южного Кавказа, в котором ключевые страны региона отказываются от роли объекта, навязываемой извне, и тем самым вызывают тревогу в западных столицах.
Санкционные дебаты, дипломатическая риторика и медийные нарративы - это не набор разрозненных эпизодов. Это скоординированная линия давления, активизировавшаяся в начале 2025 года. Формальный повод - "откат от демократии", "угроза правам человека", "давление на гражданское общество". Но в действительности речь идёт о том, что и Грузия, и Азербайджан проводят независимую политику, не вписывающуюся в схему управляемой периферии.
Пример - Грузия, принявшая в 2024 году закон об иностранных агентах по аналогии с законодательством США (FARA). Закон предполагает обязательную регистрацию НПО, получающих финансирование извне. Но Запад не позволил себе критику по тому же поводу в собственном законодательстве. Грузинскую же инициативу объявили "попранием свобод" и "предательством европейского курса".
С аналогичной логикой подвергся критике Баку, когда в сентябре 2023 года он восстановил конституционный строй на всей территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, без внешней помощи и без вторжения третьих стран. Это нарушило привычный для Запада сценарий затяжных конфликтов, управляемых "миротворческими посредниками" и международными структурами.
Реакция не заставила себя ждать. Уже к декабрю 2023 года Европарламент принял резолюцию с призывом к "переосмыслению отношений с Азербайджаном". В марте 2024 года Германия приостановила часть технической помощи Тбилиси. А в феврале 2025 года группа конгрессменов предложила законопроект о введении персональных санкций против "грузинских политиков, подрывающих демократию". Всё это в рамках логики, где демократия трактуется как лояльность Западу, а любые формы независимости - как угроза.
Заявления дипломатов и представителей международных структур сопровождаются активной информационной кампанией. Пример - высказывания посла Германии в Тбилиси Петера Фишера, фактически поставившего под сомнение европейский путь Грузии:
"Если страна хочет в ЕС, она не должна критиковать ЕС. Это недопустимо".
Но факты противоречат риторике. Согласно опросу CRRC Georgia (декабрь 2024 года), 81% грузин поддерживают вступление в ЕС, но при этом 64% считают, что страна должна сохранять независимую внешнюю политику, даже если это вызовет недовольство в Брюсселе. То есть - курс на Европу не означает готовности идти на капитуляцию.
Аналогично в Азербайджане: опрос Social Research Center (SRC, январь 2025 года) показал, что 74% граждан поддерживают стратегическое партнёрство с Западом, но лишь 29% считают, что оно должно строиться в ущерб отношениям с Турцией и странами Востока.
Нельзя игнорировать и роль параллельных структур влияния. По данным парламентского расследования в Грузии (отчёт комиссии по прозрачности финансирования, март 2025), за последние пять лет через фонд USAID в страну поступило более 143 млн долларов на программы по "укреплению гражданского общества". Из них около 35% направлялись на НПО, активно вовлечённые в оппозиционную деятельность. Аналогичная ситуация наблюдается и в Армении, где на фоне евроинтеграции резко выросло финансирование медиаплатформ, критикующих партнёров по ОДКБ.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в феврале 2025 года прямо заявил:
"Финансирование из-за рубежа используется для формирования параллельной политической инфраструктуры, действующей против легитимной власти".
Эта модель была отработана на примере Украины, а затем - адаптирована к особенностям Кавказа. Формируется иллюзия "народного давления", подкреплённая медийной волной и внешнеполитическими угрозами.
На этом фоне вопрос Марко Рубио о санкциях против Грузии и Азербайджана звучит не как спонтанная реплика, а как тестирование общественного и экспертного поля. Речь идёт о возможности точечных воздействий: визовые ограничения, блокировка финансовых потоков, приостановка программ USAID и GIZ, сокращение академических обменов, давление на центральные банки через международные финансовые механизмы.
При этом ни Грузия, ни Азербайджан не находятся под санкциями со стороны ООН, не ведут войн, не развязали агрессии. Они лишь отказались подчиняться политическому диктату - и уже этого оказалось достаточно для угроз.
Исторически концепт "санитарного кордона" применялся в Европе после Первой мировой войны. Суть - создание пояса государств между Россией и Западной Европой, которые играют роль буфера. Сегодня в XXI веке Запад вновь стремится превратить Грузию, Армению и Азербайджан в подобный буфер - на этот раз не от России, а от независимых геополитических субъектов, идущих своим путём.
Задача - удерживать регион в состоянии управляемой неопределённости. Не допускать реальной интеграции - ни с Востоком, ни с Турцией, ни даже с самими собой. Поддерживать напряжённость, использовать активистов, дипломатические каналы, санкции и медиа, чтобы не дать возникнуть модели успешного суверенного развития.
Грузия хочет в Европу - но не в услужение
Европейский союз оказался в ловушке собственной избирательной морали. Он требует от стран-кандидатов не просто реформ, а эмоциональной капитуляции. При этом забывает, что устойчивое партнёрство невозможно без взаимного уважения.
Грузия, Азербайджан, а завтра - возможно, и другие страны региона, устали быть объектами внешнеполитической риторики. Им не нужны уроки морали, им нужны чёткие процедуры, прозрачные критерии и открытая дискуссия.
Риторика может быть оружием. Но когда она становится инструментом подмены, она разрушает саму идею, ради которой и был создан Европейский проект. Европа, если она действительно хочет быть союзом народов, а не империей предпочтений, должна отказаться от шантажа и вернуться к равноправному диалогу. Пока не поздно.
"Грузинская мечта" первой вписала в Конституцию страны курс на ЕС. Но сегодняшний конфликт показывает: Европа хочет не партнёров, а слуг. А Грузия хочет идти в Европу с достоинством. Не унижаясь, не молча проглатывая двойные стандарты, не забывая свои трагедии, не предавая свою память.
Это и есть настоящее европейство. Не декларативное, не фасадное, не пропагандистское. А суверенное, осознанное, с правом на собственный голос.
Когда послы начинают говорить как политики, и когда дипломаты открыто вмешиваются в внутриполитическую жизнь, наивно говорить о "дружеском партнёрстве". Это - тонко завуалированная форма внешнего диктата. Грузия выдерживала и не такие испытания. И выдержит. Но теперь - уже с новым осознанием того, кто друг, а кто всего лишь смотрящий от чужих интересов.
Грузия и Азербайджан не отвергают сотрудничество с ЕС и США. Они не разрывают связи, не объявляют политический нейтралитет. Но они требуют равного подхода - без двойных стандартов, без политических условий под видом "ценностей". Они требуют признания себя как субъектов, а не как территорий для геополитических экспериментов.
Именно это раздражает западных игроков. Ведь гораздо удобнее иметь в регионе слабые, зависимые режимы, чем сильные, самостоятельные государства.
Южный Кавказ перестаёт быть пешкой. И за это его пытаются наказать. Но на этот раз игра - уже не по их правилам.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:264
Просмотров:264 Эта новость заархивирована с источника 27 Мая 2025 21:44
Эта новость заархивирована с источника 27 Мая 2025 21:44 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые