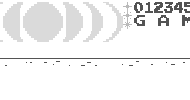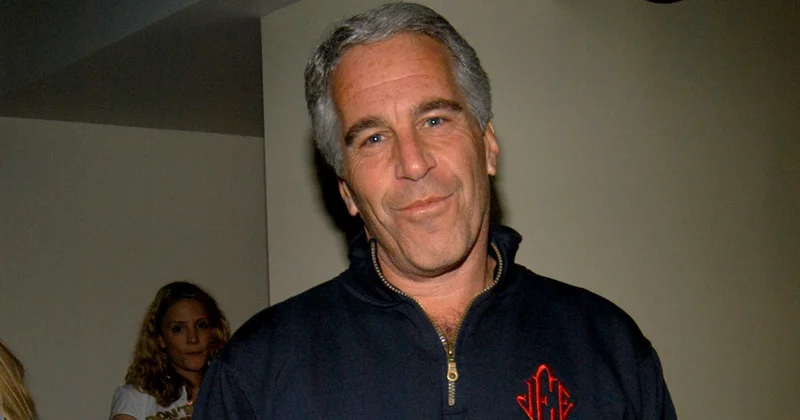Вашингтонский поворот: как встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна изменила политическую геометрию Южного Кавказа АНАЛИЗ от Baku Network
Icma.az передает, что по данным сайта Day.az.
Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network
На сайте Baku Network опубликована статья о том, как встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна изменила политическую геометрию Южного Кавказа.
Day.Az представляет полный текст статьи:
Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне стала символическим рубежом в политической архитектуре Южного Кавказа. Она зафиксировала факт, который в регионе давно ощущался, но теперь был формализован дипломатическим жестом: Россия утратила монополию на роль арбитра между Баку и Ереваном. Вторжение в Украину не только истощило ресурсы Москвы, но и подорвало доверие к ней как к посреднику, способному гарантировать долгосрочную стабильность. Лидеры Азербайджана и Армении больше не желали оставаться в системе координат, где их будущее определялось интересами Кремля, и предпочли обратиться к США - пусть даже не из симпатии, а из расчета.
Трамп в первые годы своего президентства не проявлял интереса к Южному Кавказу. Его внимание было сосредоточено на крупных международных кризисах, а попытки Баку и Еревана добиться личных встреч остались безрезультатными. Даже во второй срок приоритетами Вашингтона были попытки договориться с Москвой и прекратить войну в Газе. Армяно-азербайджанская тематика оказалась на периферии, пока дипломатические проекты Белого дома не зашли в тупик. Лишь тогда Трамп обратил внимание на этот застывший, но формально готовый к урегулированию конфликт, где текст мирного договора давно был согласован, а вопрос заключался лишь в его подписании.
Однако в политической реальности символические жесты не всегда конвертируются в практические результаты. Президент Ильхам Алиев продолжал настаивать на изменении армянской конституции до заключения договора, что фактически отодвигало мирный процесс на годы. Параллельно обсуждался вопрос транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. Идея о том, чтобы дорога оставалась под армянским контролем, но управлялась американской компанией, выглядела компромиссом, однако её хрупкость была очевидна: слишком много игроков, слишком много рисков утраты контроля над процессом.
Двусторонний формат, которого добился Баку, сам по себе был редким достижением: без посредников, без навязанных форматов, напрямую. Встреча в Абу-Даби ранее продемонстрировала, что именно в таком формате стороны способны обсуждать и уточнять реальные позиции, а не выстраивать их через призму третьих стран. Более того, эта динамика постепенно меняла тон политической риторики: азербайджанские медиа снизили градус угроз, армянские политики перестали прогнозировать военную эскалацию. Но сама встреча в Вашингтоне показала, что геополитическая инерция куда сильнее локальных дипломатических прорывов.
Причина не только в формальных разногласиях. И Баку, и Ереван исходили из общего недовольства постсоветской опекой Москвы, но у каждого была собственная траектория ухода. Для Армении это было связано с осознанием катастрофической зависимости, для Азербайджана - с демонстрацией нового статуса региональной державы, способной определять правила игры без оглядки на "старшего брата". Полномасштабная война России в Украине лишь усилила эти тенденции, актуализировав память о периодах, когда Кремль подавлял национальные движения и манипулировал карабахской проблемой в своих интересах.
Тем не менее, стратегическая задача заключалась не только в дистанцировании от Москвы, но и в том, чтобы избежать попадания в новые зависимости. Появление США в переговорном процессе неизбежно меняло баланс. Формально речь шла об обеспечении логистического коридора, но в реальности - о допуске Вашингтона к системному влиянию в регионе. Для Баку этот сценарий был двусмысленным: он открывал возможности укрепления связей с США, но противоречил принципу исключительного двустороннего формата. Для Еревана же американское посредничество было шансом ослабить давление Баку и переиграть Москву в её собственном регионе.
Проблема заключалась в том, что Вашингтон входил в процесс с недостаточным пониманием региональной специфики и чрезмерной склонностью к демонстративным шагам. Утечка информации о планах передать проверку грузов американской компании до их окончательного согласования подорвала доверие. А неосторожное заявление Томаса Баррака о "100-летней аренде" участка армянской территории не только вызвало раздражение в Ереване, но и привело к жесткой реакции на уровне законодательства. Азербайджан, видевший в этом потенциально удобную схему, оказался свидетелем того, как дипломатическая перспектива рушится из-за непрофессиональной риторики.
Вашингтонская встреча, таким образом, стала не столько шагом к немедленному миру, сколько фиксацией новой политической реальности: Южный Кавказ переставал быть эксклюзивной зоной российского влияния. Но сама архитектура будущего мира оставалась зыбкой. Слишком многое зависело от того, будет ли американское присутствие воспринято как инструмент балансировки, а не как замена одного патрона другим. И в этом заключался главный риск - что дезинтеграция российского влияния может обернуться не самостоятельностью, а новой конфигурацией внешней зависимости, которая в долгосрочной перспективе создаст новые линии напряженности.
Долгосрочные геополитические последствия вашингтонской встречи выглядели куда сложнее, чем её формальный итог. Южный Кавказ входил в фазу трансформации, в которой разрушение прежнего порядка не сопровождалось ясным пониманием, какой именно порядок придет ему на смену. Россия теряла позиции, но это не означало автоматического укрепления независимости региональных государств. История международных отношений знает немало примеров, когда освобождение от одной формы внешнего контроля оборачивалось попаданием в новую, более сложную и менее предсказуемую систему зависимостей.
США рассматривали регион через призму своей глобальной стратегии, где Южный Кавказ был лишь элементом в цепи контроля над транзитными маршрутами и энергетическими потоками, связывающими Каспий, Ближний Восток и Европу. Для Вашингтона это направление имело стратегическую ценность прежде всего в контексте сдерживания Ирана и минимизации российского влияния на транспортные и энергетические коридоры. Однако подобная логика редко учитывала внутреннюю динамику отношений между Арменией и Азербайджаном, их исторические травмы, политическую культуру и особенности регионального баланса сил.
Для Баку ситуация представляла собой двойственную дилемму. С одной стороны, Азербайджан добивался закрепления своего статуса региональной державы, независимой от Москвы, и американское участие могло быть использовано для расширения политических и экономических возможностей. С другой - слишком активная роль США угрожала подменить двустороннюю логику переговоров многосторонним форматом, где внешние силы снова станут диктовать условия. Опыт тридцатилетней истории карабахского конфликта ясно показал, что любое посредничество крупных держав неизбежно сопровождается приоритетами, не совпадающими с интересами сторон.
Для Еревана же ставка на Вашингтон означала не только попытку снизить зависимость от Москвы, но и попытку встроиться в систему западных альянсов. Однако этот шаг был сопряжен с рисками: любое слишком заметное сближение с США могло вызвать жесткую реакцию России, которая, несмотря на потерю былого влияния, сохраняла рычаги давления - от военных баз до энергетической инфраструктуры. Более того, армянская внутренняя политика оставалась нестабильной, что снижало способность Еревана проводить долгосрочную внешнеполитическую линию.
В перспективе открывался сценарий, в котором Южный Кавказ становился ареной конкуренции не между Москвой и Вашингтоном в привычной холодновоенной логике, а между целым набором внешних игроков. Турция, Иран, Китай и ЕС имели собственные интересы в регионе, и усиление американского фактора автоматически провоцировало их активизацию. Для Азербайджана это создавало возможность маневра, но одновременно и необходимость вести более сложную игру, балансируя между несколькими центрами силы.
Вашингтонская встреча также выявила одну из ключевых проблем региональной политики - отсутствие у сторон способности быстро закреплять достигнутые договоренности. Даже предварительный консенсус по вопросам транспортного коридора или конституционных изменений в Армении оставался под угрозой срыва из-за внутренних политических соображений, давления элит и общественного мнения. Любая утечка информации или неосторожное заявление могли разрушить месяцы дипломатической работы.
В более широком контексте, встреча в Вашингтоне стала своего рода тестом на устойчивость концепции построссийского Южного Кавказа. Она показала, что односторонний выход из орбиты Москвы не гарантирует автоматического прихода к миру. Более того, в случае ошибки в выборе новых союзов или посредников, конфликт может приобрести новую конфигурацию, где баланс будет ещё более хрупким, а внешние акторы - ещё более настойчивыми в продвижении своих интересов.
Если в ближайшие месяцы Президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну удастся закрепить хотя бы минимальные договоренности, это станет важным прецедентом самостоятельного формирования региональной архитектуры безопасности. Если же процесс вновь застопорится, Южный Кавказ рискует вернуться к модели, где его судьба определяется в кабинетах дальних столиц, а не в столицах самих заинтересованных стран.
Реализация американской формулы по коридору в Нахичевань способна изменить региональный баланс сил куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от военных соглашений или политических деклараций, транспортный коридор - это инфраструктурный проект с долговременным эффектом, который встраивается в экономическую, дипломатическую и даже военную архитектуру региона. Любое его решение определяет, кто и в какой степени будет контролировать коммуникации, связывающие Каспий и Средиземноморье.
Если дорога между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью останется под формальным контролем Армении, но будет управляться американской частной компанией, Вашингтон получит прямое, пусть и формально коммерческое, присутствие в транспортной логистике Южного Кавказа. Для Азербайджана это означало бы гарантии от возможных блокировок или политических манипуляций со стороны Еревана, а также доступ к американским технологиям и инвестициям в транспортную инфраструктуру. Одновременно это стало бы важным сигналом Турции, которая рассматривает Нахичевань как стратегическую точку соединения с Азербайджаном и частью будущего трансевразийского транспортного коридора.
Для Армении подобная схема могла бы служить инструментом снижения прямого давления Баку: ответственность за транзит фактически перекладывалась бы на третью сторону, что позволяло бы армянскому руководству избегать постоянных внутриполитических обвинений в "уступках". Однако здесь скрыт и риск: американская компания, действуя по контракту, де-факто могла бы вывести этот участок из зоны суверенного контроля Еревана, пусть даже на юридическом уровне он оставался бы армянским. Такой прецедент неизбежно стал бы предметом ожесточенной внутриполитической полемики в Армении и мог бы спровоцировать кризис доверия к правительству.
В региональной плоскости реализация американской формулы изменила бы привычный треугольник сил. Москва, лишившись даже косвенного влияния на транспортные коммуникации в Закавказье, оказалась бы отрезанной от одного из немногих оставшихся инструментов давления на Баку и Ереван. Турция, напротив, получила бы дополнительный аргумент для расширения экономического и политического присутствия в регионе, опираясь на логистическую связку через Нахичевань. Иран, традиционно настороженно относящийся к любым формам внешнего военного или политического присутствия у своих границ, воспринял бы проект как элемент американской стратегии сдерживания, что могло бы привести к ответным мерам - от усиления военной активности на севере до продвижения собственных транспортных маршрутов в обход Азербайджана.
Особая интрига заключалась бы в реакции Евросоюза и Китая. Для ЕС американское присутствие в коридоре могло бы стать инструментом диверсификации поставок энергоресурсов и сокращения зависимости от нестабильных маршрутов Ближнего Востока. Китай, напротив, воспринимал бы это как потенциальную угрозу своим проектам в рамках инициативы "Пояс и путь", так как американский контроль над ключевым отрезком мог осложнить реализацию сухопутных маршрутов через Южный Кавказ.
Внутри Азербайджана реализация проекта воспринималась бы как дипломатическая победа - возможность решить многолетнюю проблему сообщения с Нахичеванью без уступок в вопросах суверенитета и с минимизацией рисков политического шантажа. Однако для Баку было бы принципиально важно избежать превращения американской компании в политический инструмент Вашингтона, способный в критический момент заблокировать транзит под предлогом "безопасности" или "санкционного режима".
Таким образом, если американская формула будет воплощена в жизнь, Южный Кавказ получит новый центр тяжести, сместившийся от традиционного армяно-азербайджанского противостояния к более сложной системе, где транспортная артерия станет объектом глобального соперничества. И тогда уже вопрос о мире и войне в регионе будет зависеть не только от воли Баку и Еревана, но и от того, насколько их интересы совпадут с интересами внешних держав, контролирующих инфраструктуру.
В течение ближайших десяти лет Южный Кавказ войдет в фазу, когда привычная логика постсоветской зависимости окончательно уступит место сложной системе перекрестных интересов, а инфраструктура станет главным инструментом политики. Если американская формула по коридору в Нахичевань будет реализована, регион получит новый политический ландшафт, в котором Азербайджан закрепит статус ключевого узла транспортных, энергетических и коммуникационных потоков.
Баку будет укреплять свою роль региональной державы, сочетая контроль над логистикой, технологическую модернизацию армии и диверсификацию экспорта. Он будет последовательно снижать уязвимость к внешним давлениям, используя коридор как рычаг в переговорах с соседями и внешними центрами силы. Параллельно Азербайджан будет интегрировать коридор в более широкий проект трансевразийских маршрутов, что повысит его значимость для Турции, Европы и Азии.
Армения, приняв участие в проекте, будет вынуждена перестроить политическую систему, чтобы снять конституционные противоречия и зафиксировать новый формат отношений с Азербайджаном. Это даст ей возможность привлекать долгосрочные инвестиции, получать доходы от транзита и открывать собственные каналы связи с внешними рынками. Однако она будет балансировать между экономической выгодой и политическими рисками - любая внутренняя нестабильность будет угрожать всей конфигурации.
США будут использовать коридор как элемент своей региональной стратегии, связывая его с задачами сдерживания России и Ирана. Американская компания-оператор будет обеспечивать прозрачность процедур и стабильность грузопотока, что укрепит доверие участников и снизит вероятность политических сбоев. Но любое использование контроля в санкционных или политических целях будет подрывать систему и стимулировать поиск альтернативных маршрутов.
Турция будет усиливать своё присутствие в Нахичевани, превращая её в стратегический мост между турецкой и азербайджанской экономиками. Она будет расширять военное, транспортное и энергетическое сотрудничество с Баку, а через коридор получит дополнительные аргументы в своей внешней политике на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Иран, видя усиление американского влияния, будет развивать собственные транспортные маршруты и предлагать региону альтернативные логистические решения. Он будет стремиться встроиться в сервисные цепочки, чтобы не допустить полной потери контроля над транзитом через свои северные границы.
Россия будет постепенно терять возможность прямого влияния, но будет пытаться возвращаться в логистические проекты через партнеров и консорциумы. Она будет использовать информационные и энергетические рычаги, однако её присутствие в инфраструктурной архитектуре региона будет сокращаться.
Евросоюз будет усиливать роль поставщика правовых стандартов и регулирования, а Китай - наращивать экономическое присутствие вокруг коридора, не вступая в прямую конфронтацию с США, но предлагая дополнительные сервисы и инвестиции.
Если система будет работать без сбоев, коридор в Нахичевань превратится в устойчивую институцию, снижающую риск военных столкновений и интегрирующую регион в глобальные цепочки поставок. Экономическая взаимозависимость будет вытеснять логику конфликта, а мирный договор между Баку и Ереваном перейдет из символической плоскости в практическую, где каждое положение будет обеспечено правом, контрактами и взаимной выгодой.
Если же проект сорвется, Южный Кавказ вернется к режиму фрагментации, где каждый новый инцидент будет разрушать доверие, а транспортные маршруты снова станут заложниками геополитических игр. В таком случае регион упустит уникальный шанс закрепить новую субъектность и останется ареной внешних манипуляций.
Вашингтонская формула по коридору в Нахичевань станет водоразделом в истории Южного Кавказа. Её успешная реализация закрепит новую модель региональной политики, в которой Азербайджан, Армения и внешние акторы будут взаимодействовать на основе взаимной экономической выгоды, а не на языке ультиматумов и исторических обид. Она превратит инфраструктуру в гарантию мира, а мир - в условие устойчивого развития.
Азербайджан укрепит позиции ключевого игрока, соединяющего Каспий с Турцией и далее с Европой, а Армения, преодолев конституционные барьеры, сможет встроиться в региональные и глобальные цепочки. США получат стратегическую точку присутствия, Турция - функциональный мост к Центральной Азии, ЕС - стабильный канал энергопоставок, Китай - коммерческую площадку для сервисов, Иран - стимул для выстраивания собственных маршрутов. Россия же столкнется с необратимым сокращением своего контроля.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:153
Просмотров:153 Эта новость заархивирована с источника 09 Августа 2025 17:25
Эта новость заархивирована с источника 09 Августа 2025 17:25 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2025 Все права защищены
TDSMedia © 2025 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые