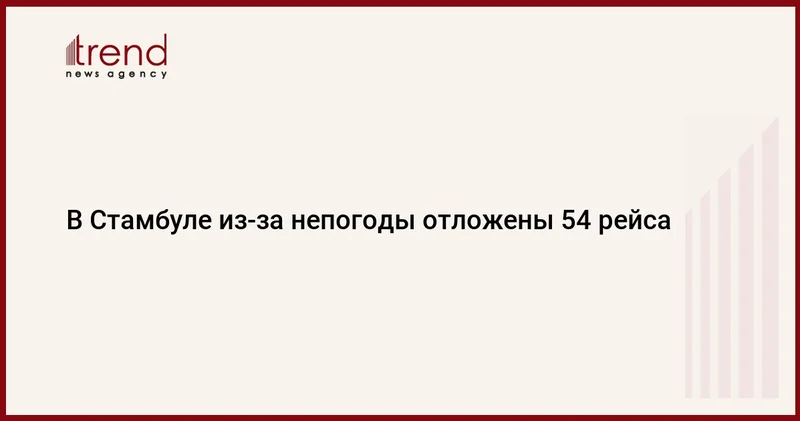Фонд Гегард "обвиняет", а рушится армянская мифология: Плач над каменным идолом ОБЗОР от Эльчина Алыоглу
Icma.az информирует, ссылаясь на сайт Day.az.
Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az
Фонд Гегард снова разыгрывает старую пластинку про "вандализм" Азербайджана. На этот раз - вокруг памятника "Мы - наши горы" в Ханкенди, который в армянских медиа давно превратили в фетиш и символ "арцаха". История стандартная, как старый пресс-релиз: "Азербайджан осквернил, Азербайджан разрушил, Азербайджан угрожает", - и это подается под соусом вечной драмы о "культурном геноциде". Баку даже не успевает что-то прокомментировать - армянская мифология сама себе режиссер, сама себе оператор, сама снимает фальшивые кадры, создает легенды и начинает публичные истерики.
Но в этой очередной жалобе есть один характерный нюанс: вся "сенсация" держится на публикации в соцсетях и эмоциональном толковании чужих реверансов. Видео, надписи, комментарии - типичная модель армянского информационного актива: главное - обвинить. И снова всплывают мантры про исчезновение "армянского следа", угрозы сноса памятника и даже спекуляции вокруг решений международных судов. И хотя 2023 год уже поставил жирную и окончательную точку в судьбе Карабаха, армянская сторона продолжает цепляться за прошлое, превращая любой объект, любую каменную плиту или тень на стене в доказательство "оккупации".
На деле перед нами уже не вопрос наследия, а вопрос политической торговли символами.
И да, они снова плачут. Снова размахивают руками и показывают на окна, которые якобы были выбиты варварами, на стены, которые, говорят они, были оплеваны истерией чужого языка. Они снимают видео, дрожащими голосами читают стенограммы своих воспоминаний, подбирают каждое слово так, чтобы вызвать жалость, сострадание, шок и моральное превосходство над всем остальным миром. Они рассказывают о сломанных балконах, забыв, что полвека превращали в руины Карабах - землю, где под каждым камнем лежит история не одного дома, но нации.
Мне интересно: где были эти слезы, когда в Ходжалы замерзшие тела матерей с младенцами бросали на улицах, как выкинутые тени? Где был их трагизм, когда сотни азербайджанских сел и городов, от Агдама до Физули, были превращены не просто в развалины, а в выжженную лунную поверхность войны и ненависти? Где были эти жалостливые камерные монологи, когда дома азербайджанцев выносили по кирпичу, по балке, по семейной фотографии, превращая память в пепел?
Они сегодня рассказывают о разрушенных улицах Ханкенди. А я спрашиваю: а как быть с этими тысячами и тысячами домов, сожженных, разграбленных, превращенных в руины за тридцать лет оккупации Карабаха? Как быть с домами 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении, лишенных родины, права на могилу предков, на кладбища, на то, что в нашем древнем языке называется "Vətən"? Как быть с теми, чьи дома не просто рушили - их вытирали с карты мира, как губкой стирают надпись на школьной доске?
Их эмоциональная драма - всегда односторонняя. Она слепа к чужой боли. Она слышит только свое эхо. В этом и есть смысл их плача: сделать собственную трагедию не просто единственной, но священной, недоступной критике, как литанию. Они желают, чтобы весь регион вспомнил только об их утраченных домах, забыв, что десятилетиями не замечали сожженные дома азербайджанцев. Как будто один разрушенный балкон стоит выше разрушенного города Агдам, превратившегося в самый большой призрак Кавказа, где ветер свистел через окна школ, превращенных в мишень.
И тут есть самое опасное лицемерие: они не просят справедливости - они требуют монополии на страдание.
Проблема не в том, что они плачут. Плакать - человеческое. Проблема в том, что они сделали из этого институцию. С культом памяти, с фондами, с профессиональными крикунами, которые снова и снова повторяют: наш дом разрушен. Наша стена сломана. Наши фотографии исчезли.
Но что делать с тем, что исчезло у нас? Кто был рядом, когда нас пытая изгоняли из Армении? Кто фотографировал разруху азербайджанских сел, которые армянские боевики стирали с лица земли?
Я смотрю на кадры армянских жалоб и думаю: это театр. Декорации поданы, эмоция включена, роль разучена. Они говорят: там был сад, там была гостиная, там висела картина. А у нас был город. У нас были мечети, в которых армяне потом держали свиней. У нас была земля, где каждый камень знал хозяина. У нас были кладбища, оскверненные оккупацией.
Разве не это и есть настоящая трагедия? Но история слез армян - это не хроника реальности. Это политическая стратегия.
Они говорят, что памятник "Мы - наши горы" символ Карабаха. Они выдумали культ. Легенду. Мифологию, призванную перекрыть факты. Но давайте говорить прямо: этот памятник был построен не народом, не древней традицией, не культурным кодом нации. Он был построен в 1967 году - в советский период, по приказу власти, которая тогда управляла культурной политикой региона.
Автор - Саркис Багдасарян. Архитектор - Юрий Акопян. Это факт. Но факт куда важнее - этот памятник не был символом армянской "вечности". Он был символом другого - национализма и сепаратизма, оформленного в камне. Он появился тогда, когда в СССР уже расцветали первые ростки армянского этноцентризма, завуалированного под культуру.
Они говорят: он был поставлен на холме. Конечно. Холм - это точка доминирования. Это визуальный, символический элемент: мы стоим над этой землей. Но чьей землей? Это не памятник возрастным супругам. Это не памятник миру. Это памятник претензии на землю, которая всегда принадлежала Азербайджану.
И вся легенда о том, что этот памятник символизирует связь народа с землей - обман. Он символизирует культурный сепаратизм. Он - как проект: внедрить в сознание образ "мы вечные, мы стоим здесь", игнорируя правду. Он - каменный лозунг, застывший над городом, который они окрестили чужим именем.
Они утверждают: этот памятник символизирует "непреклонность". Дескать, два пожилых человека смотрят вдаль, как стражи земли. Они называют его "символом арцаха". Они говорят о "вечной связи с землей". Но история всегда любит холодную правду: этот памятник не вырос из почвы. Он не был высечен в глубинах веков. Его не воздвигли древние мастера. Его не писали поэмы. О нем не сложены легенды.
Он родился при советской власти. По указке. По воле политической эпохи. Время его появления - вовсе не расцвет традиций, но эпоха, когда национализм армян в Карабахе впервые получил визуальную форму. Это было культурное наступление, каменная декларация: "мы здесь, и мы будем требовать". Это был символ сепаратистского сознания, прикрытый каменной эстетикой.
Говорят: красный туф символизирует вечность. Но для меня, как для человека, знающего историю этих земель, этот туф - скорее кровь и пепел тех, чьи дома были снесены. Это не о вечности. Это о претензии. О чувстве исключительности.
Скульптор Багдасарян - не древний летописец. Он был частью советской художественной школы, которая строила идеологические маркеры. Архитектор Акопян - не наследник тысячелетней традиции. Он - часть профессиональной среды, где архитектура была политическим манифестом.
Они говорят: два старика, супруги, традиционные костюмы, взгляд вперед. Но я вижу другую картину. Это не супруги. Это каменные свидетели захвата. Это не костюмы - это мундиры претензии. Это не взгляд вперед - это взгляд сверху вниз на землю, которую они когда-то мечтали назвать исключительно своей.
Эта скульптура - не символ любви. Это символ идеи "мы и только мы". Это символ замкнутости, обособления, сепаратизма. Она была создана для того, чтобы внушить мысль: Карабах - наш, мы стоим здесь корнями.
Но корни у этого памятника - не исторические. Они искусственные, советские. Построенный на холме памятник был не художественным объектом - он был политическим флагом, поставленным над азербайджанской землей.
Когда армянские фонды публикуют заявления, меня поражает одно: как быстро они забывают историю. Они пишут про "вандализм". Они говорят, что память "оскорблена". Они требуют международных мер, решений суда, восстания мировой совести. И все это звучит как комическая трагедия.
Фонд "Гегард" пишет, что памятник подвергался "вандализму после перемещения арцахского населения". Даже формулировка - театр. "Перемещение". Какое деликатное слово. Как будто это не была капитуляция, не был бегство, не было поражения. Они превратили падение в эвфемизм. Снова делают трагедию сладкой, как десерт в ереванском ресторане.
Но я задаю простой вопрос: где были их фонды, их академики, их аналитики, когда сотни азербайджанских поселений превращали в пустыню? Когда Агдам стоял без крыши, как череп мертвого великана? Когда в Физули можно было встретить только ветер и мину? Когда Джабраил, Лачын, Зангилан, Кельбаджар и десятки других городов и сел были стерты с лица земли ровным движением траков?
Тогда никто не писал: "вандализм". Тогда никто не говорил о праве на память. Тогда никто не вспоминал Международный суд. Тогда никого не интересовали кладбища, на которых танки разворачивались, как нож по телу.
Но теперь? Конечно. Теперь удобнее плакать. Теперь выгоднее кричать о "памятнике". Потому что жалоба - это форма политического давления.
Они говорят: на памятнике появились надписи. Так в чем трагедия? Камень не разрушен. Скульптура стоит. Но рухнуло не каменное лицо. Рухнул миф. Миф о вечной, нерушимой, непобедимой идее. Миф о том, что они - хозяева гор. Что они - хозяева Карабаха. Что их символы - неподсудны истории.
Они пишут: "Баку не отказался и не откажется от процесса искоренения армянского следа".
А я отвечаю: невозможно искоренить то, чего не было. Нельзя стереть фальшивую легенду. Нельзя разрушить самозваные символы. Нельзя уничтожить вечность, если она принадлежит другой земле.
Они боятся не за памятник. Они боятся за символ собственной идеологии. Они боятся, что мир увидит истину: Карабах не был армянским. Он был оккупирован. Он был захвачен. Он был удержан насилием. А теперь он вернулся.
И вот что страшно для них: надпись на памятнике - это не вандализм. Это приговор.
Когда они говорят: "наш дом разрушен", я вспоминаю Эзопа: "Волчья слезинка - хищник пьет воду из родника, но жалуется на пастуха".
Когда они рассказывают о "квартире в Ханкенди", я вспоминаю Хемингуэя: "Разрушение - не трагедия, если его строили на чужих костях".
Когда они кричат о памяти, я вспоминаю Низами: "Не называй храм, построенный на пепле - святыней".
Когда они рассказывают о "гнезде", которое якобы разрушили, я думаю о тех азербайджанских семьях, чьи гнезда сожгли не метафорой, а огнем. Чьи дома срывали по кирпичу. Чьи фотографии смешивали с грязью. Чьи кладбища превращали в сараи.
Эти люди жалуются на судьбу, забыв, что сами строили тюрьму для другого народа.
Я смотрю на Карабах сегодня и понимаю: он дышит. Он оживает. Ветер несет запах мокрой глины, туманы ложатся на долины, словно Бог снова прикоснулся к этим склонам. Степь открывается, как священная книга. Каждая трещина на земле - не рана, а память. Каждая гора - не стена, а свидетель.
И когда армянская сторона снова поднимает плач, стену стона и жалобу на судьбу, я знаю: это страх. Они не боятся разрушений. Они боятся зеркала.
Потому что теперь мир видит их без грима. Без легенд. Без мифа о том, что их символы вечны. Без каменной маски "Мы - наши горы", отлепленной от правды.
Этот памятник был ложью. Он был построен не любовью и не традицией, а желанием показать чужому: отойди. Он был высотой сепаратизма. Он был монументом гордыни. Но время разоблачило его как старую декорацию советского политического театра.
А настоящая скульптура истории - это не два старика из красного туфа. Это ветер, который снова говорит на азербайджанском. Это улицы, которые снова носят наши имена. Это дома, которые снова строим мы. Это кладбища, которые мы возвращаем своим мертвым.
Когда я думаю о Карабахе, я всегда вспоминаю одну фразу, которую я когда-то прочитал у Маркеса: "Подлинная трагедия не в разрушении города. Подлинная трагедия в том, когда город перестает принадлежать тем, для кого он был создан".
Карабах вернулся к тем, кому он принадлежит столетиями.
... Пусть они рассказывают про ключи от домов, которые остались в их памяти. А мы знаем: наш ключ от Карабаха - это не металл. Это кровь, потерянная здесь. Это слезы, которые мы не выставляли на витрину. Это молчание, которым мы переждали три десятилетия.
И пока они плачут о своих разрушенных домах, я спрашиваю их снова:
Где ваши слезы были, когда горели наши?
У истории всегда холодная душа и точная память. Она не забывает ни одного шага, ни одного преступления, ни одной попытки украсть чужой воздух.
История не прощает тех, кто приходит с огнем в чужую землю. Кто сносит дома и мечети. Кто изгоняет людей, как стадо. Кто превращает города в пустыни. Кто кладет свинью в мечеть, думая, что Бог не видит.
У истории есть только один язык: возвращение.
И возвращение состоялось.
Пусть они рассказывают про "армянский след". Но след - это то, что остается после пути.
А путь там, где проходила Армения в Карабахе, был не дорогой - он был шрамом.
Мы не стираем историю. Мы стираем ложь.
Они выбегают с обвинениями. Они хватаются за сердце. Они кричат о "культурном наследии".
Но мир уже видит: эти камни стояли не ради культуры, а ради претензии.
И теперь правда звучит громче. Правда не требует охраны. Ей не нужны суды и резолюции. Она стоит сама. Как горы. Как степь. Как дом.
И вот теперь они спрашивают: Что же будет с памятником "Мы - наши горы"?
Ответ прост. На Кавказе горы никогда не принадлежат тому, кто поставил возле них статую.
Горы принадлежат тем, кто может стоять на них без лжи.
Горы - это не камень. Горы - это совесть.
И если где то в Карабахе есть памятник, который должен остаться навсегда, то это не красный туф и не выдуманные супруги.
Это ветер. Это земля. Это память, которая не требует скульпторов.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:78
Просмотров:78 Эта новость заархивирована с источника 26 Ноября 2025 22:53
Эта новость заархивирована с источника 26 Ноября 2025 22:53 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые