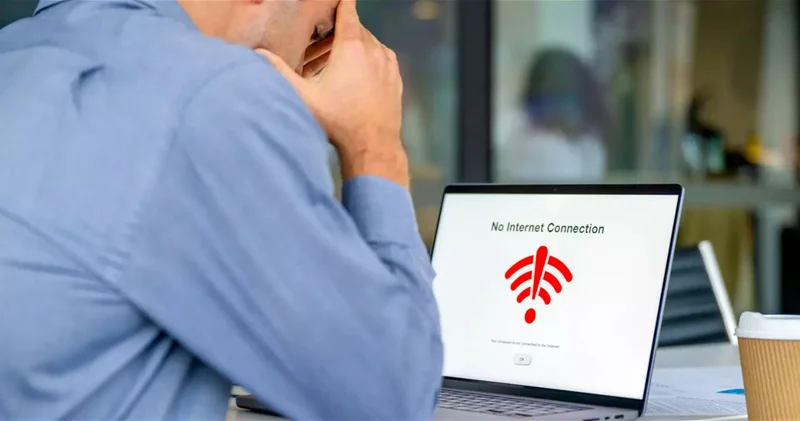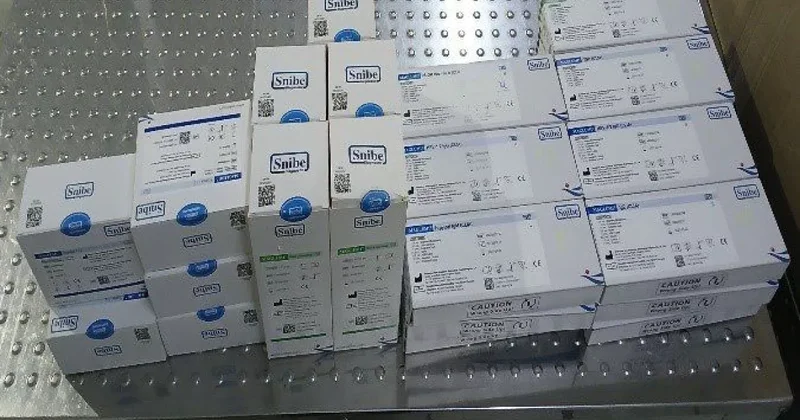Германия не готова к войне: Александр Рар о милитаризации, деградации экономики и новой идеологии Берлина ИНТЕРВЬЮ
Icma.az сообщает, основываясь на информации сайта Vesti.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц проводит более жесткую внешнюю политику: он утвердил военный бюджет, направленный на ускоренную милитаризацию страны. Мерц усиливает поддержку Украины, занимает более антироссийскую позицию по сравнению со своими предшественниками и наращивает присутствие ФРГ в странах Балтии.
Берлин также активизировал политическое влияние в Молдове, направив туда своих советников, продолжая выступать против зависимости Европы от российской энергетики. Однако на фоне этих амбиций Германия сталкивается с серьезными экономическими вызовами, которые могут поставить под угрозу ее статус ведущей экономики Европы.
О текущей политической повестке Германии в интервью Vesti.az рассказал немецкий политолог Александр Рар.
— Вот уже два месяца Германией руководит новый канцлер — господин Мерц. Как бы вы оценили его действия? Он уже успел сделать несколько значимых шагов: принял решения, направленные на милитаризацию страны, укрепление армии и ВПК. Германия выделила, если не ошибаюсь, около 400 млрд евро на оборонный бюджет. Кроме того, Берлин усилил свое влияние в Молдове — туда направлены политические консультанты, а также наращивается военное присутствие в странах Балтии. Что все это значит? К чему ведет такая политика?
— Мое мнение основано на наблюдении, и я постараюсь быть объективным. То, о чем вы говорите, — это действительно отражает текущие намерения правительства, но все это пока остается на стадии стратегического планирования. Большинство этих инициатив находятся только на бумаге. Я смогу дать более четкую и принципиальную оценку политики господина Мерца, когда его планы начнут реализовываться и переходить в практическую плоскость.
Пока говорить об этом преждевременно. Это первое. Второе — у него действительно грандиозные амбиции. Он хочет вернуть Германии статус лидера Европы. Для этого Мерц стремится заново объединить европейские страны, сплотить их вокруг тандема Германии и Франции, а также, возможно, при участии Великобритании, которая, по сути, «через черный ход» снова сближается с ЕС. Параллельно он ищет способы «дисциплинировать» тех, кто выбивается из общего курса — таких как Венгрия или Словакия.
Но пока все это — слова. Мерц пытается позиционировать себя как новый лидер Европы. Он уже посетил Литву, где выступил с программной речью, был в Польше, во Франции, несколько раз разговаривал с Дональдом Трампом. Но, если честно, ощутимых результатов я пока не вижу.
Да, Германия действительно готовится к серьезным внутренним реформам — прежде всего экономическим. Если эти реформы удастся реализовать, они придадут стране «новые мускулы», которые позволят играть более сильную роль как на европейской, так и на международной арене. Но, повторюсь, сначала реформы нужно провести.
Здесь у Мерца возникают трудности. Он не может реализовывать свою повестку единолично, потому что в правительстве у него коалиционные партнеры — социал-демократы. А левая часть коалиции тормозит его инициативы: не позволяет урезать социальные расходы, останавливает инициативы по ограничению миграции, противится реформам в сфере социальных фондов. А без этого оздоровить экономику невозможно.
Таким образом, Мерц оказался в тактической ловушке: его намерения расходятся с возможностями внутри правительства. Что касается внешней политики — да, деньги нашлись, и Германия действительно наращивает военное присутствие. Другие европейские страны все чаще обсуждают курс на милитаризацию не только на уровне национальной обороны, но и всего ЕС.
Есть заявления, что в ближайшие четыре года Германия должна быть готова к возможному военному конфликту с Россией. Я считаю, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от двух факторов. Первый — удастся ли при поддержке США остановить войну в Украине. Второй — сможет ли Германия провести необходимые экономические реформы и начать индустриализацию. Без этого страна не сможет играть ту роль, которую амбициозно заявляет канцлер.
— Насколько реалистична для Германии реиндустриализация в нынешних условиях, учитывая падение экономики? Автомобилестроение — ключевой сектор немецкой промышленности — переживает сильнейший кризис: закрываются заводы Volkswagen, Porsche, Mercedes. При этом стальной сектор, необходимый не только для гражданской, но и для военной продукции, также сокращается. А ведь ни танки, ни беспилотники из пластмассы не делают. Как Германия планирует восстановить промышленное производство, учитывая, что у нее одна из самых дорогих энергосистем в Европе?
— Как я уже сказал, слова Мерца пока расходятся с реальностью. И вы абсолютно верно обозначили ключевые проблемы, с которыми сталкивается Германия. Это серьезные, системные вызовы.
Главная проблема в том, что кризисов слишком много. Один-два кризиса — например, энергетический или финансовый — Германия могла бы преодолеть, используя накопленные за десятилетия ресурсы. Но сейчас эти ресурсы, на которых строилось благосостояние страны после Второй мировой войны, постепенно исчерпываются.
К экономическим трудностям добавляются миграционные и социальные. Германия фактически вынуждена сокращать социальные выплаты — пособия мигрантам, безработным и пенсионерам. Но такие шаги вызовут серьезное недовольство в обществе. Это отдельный вызов, с которым тоже придется справляться.
Что касается деиндустриализации, то прежние правительства пытались ее остановить за счет внедрения «зеленых» технологий. Но, как вы отметили, Германия производит автомобили, которые уже не пользуются глобальным спросом. Электромобили и «зеленые» технологические решения в автомобильной промышленности сегодня эффективнее производят в Китае. Именно туда уходят поставки редкоземельных и других ресурсов, необходимых для таких производств, а Германия остается в проигрыше.
К тому же, американцы активно вытягивают производство из Германии: у них ниже налоги, гибче условия, рабочая сила зачастую более продуктивна. Германия оказалась в невыгодной позиции.
Но есть и еще одна причина — психологическая. Немцы жили очень хорошо последние десятилетия и, по сути, расслабились. Вместо того чтобы, как предлагает Мерц, «засучить рукава» и вернуться к трудовой этике, как это было раньше, в обществе набирает популярность идея сокращения рабочей недели. Обсуждается переход на четырехдневную рабочую неделю с меньшей оплатой — и это воспринимается как норма. Такая позиция не позволяет вернуть прежний уровень производительности и экономической дисциплины.
Все это — глубокий социокультурный сдвиг. Общество устало от конфликтов, живет с ожиданием «чуда» от государства, но государство уже не в силах это обеспечить. Германия оказалась в ситуации, где ей не хватает даже природных ресурсов для запуска водородной промышленности — одной из ключевых отраслей «зеленой» экономики будущего. Не хватает даже воды, не говоря уже о полезных ископаемых.
В этом смысле у стран, таких как Азербайджан, Китай, Россия или США, есть стратегическое преимущество — у них есть доступ к природным ресурсам, на базе которых можно развивать производство и экономику.
Германия же строила свое благополучие на высококвалифицированной рабочей силе, инженерной мысли и эффективности. Именно поэтому ее продукция покупалась по всему миру, и страна стала чемпионом по экспорту. Но сейчас эта позиция уходит — прежде всего в Китай и другие азиатские страны, которые производят дешевле и качественнее.
Параллельно Германия начинает проигрывать и в отношениях с США. Американский рынок был одним из важнейших для Европы, но сейчас и здесь позиции слабеют. Остаются рынки ЕС — в первую очередь Восточной Европы. Польша, Венгрия, Чехия все еще активно закупают немецкие товары, но и здесь существуют объективные пределы роста.
Поэтому перспективы для Германии я бы не назвал катастрофическими, но они тревожные. Это непростой путь, и я искренне желаю канцлеру Мерцу и его правительству осознать серьезность ситуации и принимать необходимые меры — несмотря на давление со стороны левых сил и протестных групп. Только так можно избежать дальнейшего ослабления.
— Один из высокопоставленных немецких военных, генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер, приказал ускоренно вооружать армию, чтобы к 2029 году Германия была полностью оснащена. По его оценкам и по мнению других представителей НАТО, к тому времени Россия может восстановить свои силы до уровня, достаточного для атаки на страны Альянса. В то же время мы видим, что Россия не может одержать победу над Украиной, и с военной точки зрения терпит стратегическое поражение. Если бы могла победить — уже бы победила.
Как вы оцениваете подобные заявления? Это отражение реальных военных расчетов или попытка лоббистов ВПК усилить давление и получить финансирование? И в более широком контексте: с учетом демографического спада в Германии, старения населения, оттока молодых кадров, неудачной миграционной политики — насколько сегодня немецкое общество, государство и армия в целом реально готовы к войне?
— Сегодня Германия не готова к войне. И состояние бундесвера можно охарактеризовать как катастрофически слабое. Такая же ситуация наблюдается и в других армиях Европы. Это результат того, что на протяжении 35 лет — с момента падения Берлинской стены — Европа развивалась в духе пацифизма. Никто не ожидал войны, все стремились к миру.
В настоящее время Германия, и это важно подчеркнуть, находится в состоянии шока. Речь идет именно о Германии, не обо всей Европе. Шок вызван тем, что восприятие российско-украинской войны оказалось гораздо более тревожным, чем ожидалось. С одной стороны, в Берлине понимают, что Россия не добилась стратегической победы: она не пересекла Днепр, потеряла влияние в западной части Черного моря, не контролирует крупные города, из которых ранее отступила — Харьков, Киев, Херсон. В этом контексте в западной прессе порой звучит мнение, что Украина еще может победить. Но это, откровенно говоря, иллюзия.
Украина понесла тяжелые потери — как в людях, так и в технике. Финансовая поддержка ослабла. США все реже поставляют оружие, а в Европе нужных объемов просто нет. Ситуация критическая. На этом фоне становится понятно, что в тактическом плане Россия сохраняет инициативу и продвигается — пусть и медленно, километр за километром.
В Берлине понимают: если украинская армия в какой-то момент перестанет сдерживать фронт, Россия может выйти к западным рубежам Украины, вплоть до границы с Польшей. Это уже прямая конфронтация с НАТО — по сути, возврат к холодной войне.
Именно поэтому на Западе сейчас идет работа не только по-военному, но и по психологической подготовке общества к возможной войне. Людей нужно мобилизовать ментально. Это сопровождается ростом милитаристской риторики. Да, в этой ситуации выигрывают и представители военно-промышленного комплекса, которые зарабатывают огромные средства на новых оборонных заказах. Германия уже взяла в долг средства, которые будут направлены на военные цели — речь идет о 500 миллиардах евро. Эти деньги пойдут на переоснащение армии, авиацию, машиностроение, косвенно — на восстановление промышленности.
Формируется своего рода оборонно-промышленная экономика, по аналогии с тем, что Россия начала строить с 2022 года. Германия идет по этому пути, делая ставку на мобилизацию всех ресурсов, в том числе технологических.
Но остаются все те же фундаментальные проблемы, о которых я говорил ранее — демография, миграция, дорогая энергия, слабая производственная база. Вопрос в том, насколько реалистично все это реализовать на практике, даже при наличии политической воли. И в этом — главный вызов для Мерца и всей нынешней власти в Германии.
— Германия может заявлять о намерениях и прописывать в документах 400 миллиардов евро на оборонные программы на 10–15 лет вперед. Но исторически над страной лежало негласное табу на милитаризацию после двух мировых войн. Немецкое общество на протяжении десятилетий считало себя ответственным за трагедии прошлого и не было готово к возрождению крупной армии или участию в войнах. Однако с приходом Мерца ситуация начала меняться. Как вы считаете, изменилась ли политическая парадигма Германии? И если да, в чем именно эти изменения выражаются?
— Политическая парадигма в Германии изменилась не с приходом к власти Фридриха Мерца. Перелом произошел 24 февраля 2022 года — в день начала российско-украинской войны. Ключевым моментом стала историческая речь канцлера Олафа Шольца в Бундестаге, где он заявил о разрыве отношений с Россией и о необходимости готовиться к защите Европы и поддержке Украины «любой ценой». Именно тогда Германия окончательно отказалась от пацифистской позиции, которая формировалась десятилетиями.
С этого момента в стране началась полномасштабная информационная кампания. Движения за мир были фактически заглушены. Пресса стала писать в военном тоне, как будто страна уже вовлечена в конфликт. Голоса, выступающие за дипломатическое урегулирование или примирение с Россией, просто исчезли из публичного пространства — их подавили, маргинализировали. Это касается не только Германии, но и большей части Европы.
Мы наблюдаем изменения и в системе образования. В школах, университетах — повсеместно чувствуется отход от прежней пацифистской традиции. Я не скажу, что происходит прямое военизирование Германии, но культурный и политический вектор кардинально сменился. Страна готовится занять позицию лидера Европы в возможной конфронтации — с Россией, с Китаем, с любыми режимами, которые здесь называют «врагами демократии».
Да, парадигма изменилась. Германия стала другой страной. Для меня, человека, прожившего здесь почти всю жизнь, это новое государство — с новой идеологией и новым курсом. И пока трудно сказать, к чему это все приведет.
Но одно очевидно: у многих, особенно у представителей старшего поколения, происходящие изменения вызывают тревогу и беспокойство. Это не та Германия, которую они знали.
— Возникает важный вопрос: если Германия позиционирует себя как оплот демократии, то насколько демократичной можно считать инициативу о возможной ликвидации партии «Альтернатива для Германии» (AfD) через Конституционный суд? Партия набирает до 30% поддержки и отражает мнение значительной части общества. Можно ли считать демократичным путь, при котором политическую силу пытаются устранить не через выборы, а через юридические процедуры под предлогом ее «ультраправого» характера?
— Я не утверждал, что в Германии сегодня процветает демократия. Наоборот — мы видим процессы милитаризации и военизации, которые происходят под лозунгами защиты демократии. Хотя, если быть точным, речь идет не о защите самой демократии, а о сохранении прежнего либерально-демократического порядка.
Но признаков подлинной демократии в происходящем все меньше. Аргументация, которую используют немецкие элиты, тоже хорошо известна: борьба с авторитаризмом, диктатурами, нацизмом, фашизмом. Это стало своего рода универсальной формулой, под которую можно подвести любой внутренний или внешний конфликт.
Сегодня в России, например, власть объявила украинское руководство нацистским. В российском обществе эту риторику восприняли — в массовом сознании идет борьба с нацизмом. Это упрощенная, но эффективная конструкция.
А в Германии, в свою очередь, ту же схему применили к «Альтернативе для Германии» (AfD). Ее пытаются выставить фашистской, нацистской партией, новым зародышем «гитлеризма». Под этим предлогом предпринимаются попытки исключить ее из политического процесса, вплоть до запрета, даже если это нарушает принципы демократического государства.
— Но ведь у «Альтернативы для Германии» уже порядка 30% поддержки, и в парламенте она занимает около 25–26% мест.
— Вы знаете, аргументы, которые звучат здесь, довольно характерны. Приводят исторический пример: в 1933 году Гитлер тоже пришел к власти демократическим путем, его поддержало большинство. И именно это, как считают многие, привело Германию к катастрофе. Поэтому, по их логике, «новых Гитлеров» нужно останавливать заранее — даже если они приходят к власти легитимным способом.
В этом контексте принцип «остановить Гитлера» воспринимается как приоритетный, он становится важнее самих демократических процедур. Здесь именно так и смотрят на ситуацию: защиту демократии, как ни парадоксально, ставят выше демократии как системы.
— Вы как политолог и эксперт, проживающий в Германии, как оцениваете политическую программу и риторику партии «Альтернатива для Германии»? Насколько их позиция действительно соответствует обвинениям в фашизме или враждебности по отношению к определенным группам?
— Я считаю, что партия «Альтернатива для Германии» не является ни фашистской, ни нацистской, и даже не представляет собой экстремистское движение. Но действующие власти в Германии ее боятся. Боятся прежде всего потому, что AfD набирает все большую поддержку на фоне растущего недовольства населения экономической ситуацией в стране. Люди голосуют за альтернативу, и это пугает правящий класс.
Политическая конкуренция в рамках выборов, дискуссий, ток-шоу уже не дает результата — популярность AfD продолжает расти. Именно поэтому, как мне кажется, власти могут пойти по пути запретов. Не стоит удивляться — это разрушает идеалистическое представление о Европе, о ее демократии, о системе выборов, в которую многие, включая меня, верили.
То, что я сейчас наблюдаю — не только в отношении AfD, но и в целом — шокирует. Шокирует, как в 21 веке можно обращаться с частной собственностью, как легко создаются образы «врага». Сегодня это «Альтернатива для Германии» и путинская Россия. Их стремятся поставить вне закона, сделать изгоями, против которых допустимо любое средство — правовое или внеправовое.
— Мы недавно видели выборы в Румынии, и, насколько можно судить, там были зафиксированы серьезные нарушения — фальсификации, правонарушения.
— Понимаете, по поводу фальсификаций я не могу дать точный комментарий, потому что у меня нет конкретной информации. Но могу сказать, что в таких странах, как Румыния, действительно идет острая информационная борьба, и у властей есть страх потерять контроль. То же самое наблюдается, например, в Польше — там опасаются прихода к власти консерваторов.
Я бы сказал, что манипуляции с выборами за кулисами действительно имеют место — особенно в странах, где демократические институты еще неустойчивы, как в той же Румынии. В Германии или США делать это гораздо сложнее — хотя, как мы помним, в Америке в свое время обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что, на мой взгляд, вызывает сомнения.
В Восточной Европе, как мне кажется, такими вещами занимаются и западные, и российские спецслужбы — каждая сторона ищет возможности повлиять на ситуацию. С исторической точки зрения это можно назвать вполне закономерным явлением. Да, это некрасиво, это не демократично — особенно когда обвиняют одну сторону, а сами поступают так же. Но, увы, таковы реалии нашего века.
— В начале прошлого месяца в Азербайджане с визитом находился президент Германии, господин Штайнмайер. В рамках визита обсуждались ключевые вопросы, связанные с энергетической безопасностью Европы. Кроме того, сейчас Азербайджан активно развивает сектор возобновляемой энергетики — солнечные панели, ветряные электростанции — и привлекает инвесторов с расчетом на экспорт «зеленой» энергии в Европу.
Как вы оцениваете нынешний уровень азербайджано-немецких отношений в этих новых условиях? Можно ли рассматривать Германию как возможный геополитический центр притяжения для таких регионов, как Южный Кавказ?
— И да, и нет. Да — потому что я считаю, что Южный Кавказ, особенно Азербайджан, делает абсолютно правильно, развивая экономические связи с Европейским союзом. ЕС остается важным рынком, у которого есть перспективы, особенно в сфере зеленой энергетики и технологий. Конечно, в долгосрочной перспективе Азия может оказаться сильнее и динамичнее, но Европа все равно будет существовать как экономическая и политическая структура. Поэтому для Азербайджана выгодно иметь ЕС в числе ключевых партнеров — особенно в вопросах модернизации и доступа к технологиям.
Но есть и «нет». Потому что партнерство с ЕС часто сопровождается требованиями политического характера — прежде всего приверженности либеральным ценностям. И вот здесь между Азербайджаном и Германией могут возникать трудности. В Европейском союзе активны НПО, правозащитные организации, структуры, которые делают резкие заявления по вопросам прав человека в Азербайджане. Это создает напряженность и мешает чисто прагматическому сотрудничеству.
В то же время Германия понимает стратегическое значение Азербайджана, видит успехи его экономики и старается развивать двусторонние отношения. Но, как вы правильно отметили, либеральные институты, медиа и различные НПО внутри самой Европы продолжают оказывать давление, призывая к демократическим реформам и либерализации. Азербайджан же, не желая принимать внешние условия, усиливает отношения с Китаем, который, в отличие от ЕС, не выдвигает политических требований.
И в этом смысле можно сказать, что Китай выигрывает в глобальной конкуренции — он предлагает прагматичное сотрудничество без идеологических условий, что делает его для многих стран, в том числе и для Азербайджана, более привлекательным партнером по сравнению с Европой.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:164
Просмотров:164 Эта новость заархивирована с источника 27 Мая 2025 17:00
Эта новость заархивирована с источника 27 Мая 2025 17:00 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые