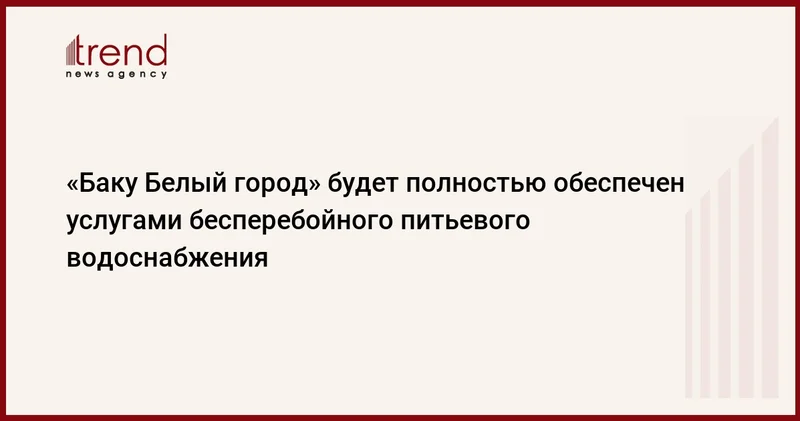Когда глина шепчет историю: интервью с художником и скульптором Мир Теймуром Мамедовым
Как передает Icma.az, со ссылкой на сайт Media az.
В самом сердце Ичеришехер, среди узких улочек древнего Баку, стоит дом, который сам стал произведением искусства. Здесь всё говорит языком керамики, орнамента и тишины. Дом-музей Мир-Теймура Мамедова – не просто пространство, где хранятся работы художника. Это место, в котором каждая плитка несет отпечаток мысли и души мастера.
Наш собеседник – человек в Баку известный. Художник, керамист, скульптор, миниатюрист, а еще историк, этнограф и карикатурист. Его творчество – это разговор с предками и временем, поиск гармонии между прошлым и вечным.
В откровенном разговоре с Media.az Мир-Теймур Мамедов делится своими размышлениями о пути художника, вдохновении и одиночестве, о доме как отражении личности, о керамике, в которой звучит история.

– Как родилась идея превратить дом в живое произведение искусства?
– Я бы сказал точнее – в информационный центр. Бумажные носители, такие как книги и журналы, уже утратили свою основополагающую роль. Они нужны лишь узким специалистам и ученым. Сегодня информация «живет» в телефоне и компьютере.
Передать то, что я знаю, широкому кругу можно только наглядно. А это возвращение к истокам, к тому, что высекалось на камне: глифам (конкретное графическое представление буквы, символа или знака – ред.), петроглифам и, конечно, керамике. Всё, что мы знаем об истории, известно благодаря этим материальным свидетельствам.



– Помните ли вы момент, когда осознали, что лепка станет не просто увлечением, а делом всей жизни?
– Всё началось с самого детства. Я с ранних лет любил лепить, но мне никогда не нравилось это «украшательство» и «оформительство». Терпеть не мог все эти красные и белые ручки. Мне всегда хотелось создавать форму (смеется).
– А помните, что было вашим первым материалом, с которого всё началось?
– Мое первое знакомство с лепкой началось с пластилина. В Баку стояла сильная жара, и пластилин таял прямо на подоконнике. Мои маленькие «шедевры» превращались в липкую массу, а бабушка мягко, но настойчиво просила убрать их. Тогда я понял, что хочу заниматься лепкой всерьез, и настоял, чтобы меня отдали в студию, где учат работать с глиной. И это стало моим первым шагом на пути к будущей профессии.

– Вы же учились в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.Мухиной?
– Да, сначала я окончил с отличием Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде. Затем продолжил обучение в училище имени В.Мухиной, где занимался архитектурным проектированием и отделкой. Кроме того, учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино на художественно‑постановочном факультете. Моей главной целью было овладеть мастерством рисунка, изучить архитектурные и скульптурные техники русской школы, которая в своей основе опирается на итальянское Возрождение. Я стремился получить доступ к уникальным знаниям, хранящимся в библиотеках, и максимально впитывал всё что мог.

– А кто оказал наибольшее влияние на ваше становление как художника?
– Думаю, мои учителя и родные. Одним из первых моих наставников стала Анна Ивановна Казарцева, а затем народный художник Ариф Газиев. На тот момент я учился в восьмом классе и должен был определиться с будущей профессией. Хотел быть художником, хотя подумывал и о врачебной сфере. Но всё же решил выбрать искусство.
А среди родных больше всего на меня повлияла бабушка. Она училась в Париже на фармацевта, знала пять языков: французский, арабский, русский, азербайджанский и фарси. Бабушка очень часто говорила со мной на французском, а я терпеть не мог «язык месье», особенно после того, как узнал, что жители этой страны едят лягушек. Зато французские гравюры обожал, особенно иллюстрации к «Робинзону Крузо». Эти роскошные картинки были привезены бабушке из Франции, и я мог часами наблюдать, как причудливо изгибается линия, движимая рукой художника. Наверное, именно тогда во мне и зародилось стремление к форме и желание самому создавать что-то своими руками.

– Сколько времени уходит на создание шедевра и, как справляетесь с периодами, когда вдохновения не хватает?
– Я работаю примерно по 12 часов в день. Для меня не существует понятия «не получается». Я просто делаю то, что должен, потому что это моя профессия. Настроение не должно диктовать мой ритм. По знаку зодиака я Водолей: если ставим цель, мы идем к ней, несмотря ни на что.
– Когда вы работаете с глиной, какие чувства она вызывает у вас?
– Всё в искусстве начинается с мысли. Материал – это всего лишь средство, инструмент, через который идея обретает тело. Для каждой мысли нужен свой язык. Бронза говорит о силе, камень – о стойкости, глина – о живом дыхании. Она умеет быть мягкой, твердой и снова возвращаться в землю, словно напоминая, что всё в мире циклично.

– Хотела спросить: в ваших работах часто появляется древняя тюркская тамга. Какую смысловую нагрузку несет этот символ?
– Тамга – сакральный родовой знак, связанный с тенгрианством. Это древний символ, который использовался тюркскими народами для обозначения рода, семьи или клана. Действительно, они часто встречаются в моих работах, лейтмотивом повторяясь в разных материалах и формах. Основная группа знаков тамги – сакральная, связанная с верой в небесное божество. Например, знак, разделенный на четыре части – это стороны света. Из пересечения формируется восьмиконечная звезда – символ, который сегодня изображен на государственном гербе Азербайджана.

– Заметила, что ваши работы содержат много женских фигур. Обусловлено ли это особым почитанием к женщине как к носительнице жизни у тюркских народов?
– Ни один этнос не относится к женщине так, как тюрки. Всё живое и неживое рождается Тенгри, а женщина несет жизнь. Это то, что способен создать только Творец. Поэтому в моих работах часто встречаются женские фигуры, символизирующие источник жизни и созидания. Этот интерес также привел меня к глубокому изучению древних культур, в частности, Кукутень-Триполье (энеолитическая археологическая культура, существовавшая на территории современных Молдовы, Украины и Румынии – ред.), которая вдохновила меня на многие образы.
Во время раскопок на месте поселений там было найдено огромное множество терракотовых фигурок женщин – беременных, худых, полных. В целом вся эта культура посвящена представительнице прекрасного пола и ее ключевой роли как созидательницы жизни.


– Какая связь прослеживается между этой культурой и азербайджанской?
– Я заметил множество параллелей между нашей неолитической культурой и культурой Кукутень-Триполье, включая сходства с Гобустаном. Орнаменты, символы, изображения человеческих фигур и животных, найденные в разных регионах, во многом перекликаются. Всё это говорит о том, что когда-то существовали общие духовные и эстетические представления, объединявшие данные территории.
В 2015 году на основе собранных мной материалов – фотографий, графических сопоставлений, археологических данных – был организован международный симпозиум, в котором приняли участие представители 26 стран. Это стало важным шагом к осознанию того, что древние цивилизации не существовали изолированно, а развивались в постоянном культурном диалоге, обменивались знаниями и символами, которые спустя тысячелетия всё еще находят отражение в нашем искусстве и мировосприятии.
– Как эта культура повлияла на ваши работы?
– Культура Кукутень-Триполье вдохновила меня на создание множества графических работ и скульптур. У меня была персональная выставка, посвященная этой культуре, и многие работы, выставленные там, были приобретены. Однако эти элементы до сих пор сохраняются в моей сегодняшней графике.


– У вас есть замечательная скульптура «Ходжалы». Что вы можете о ней рассказать?
– Это работа о памяти. Безусловно, я мечтал бы увидеть ее в другом масштабе – высотой около 28 метров при въезде в Ходжалы. В композиции есть специальные отверстия: когда через них проходит ветер, раздается протяжный свист. С психологической точки зрения это символизирует пустоту, страх, скорбь и одиночество…

– Кстати, есть ли у вас работа, которая дорога больше всего?
– На самом деле каждая моя работа уникальна и значима. Она должна вызывать эмоции как у меня, так и у зрителя. Если этого не происходит, значит, я зря потратил время. Невозможно выделить что-то одно – все они дороги мне по-своему.
– Не могу не спросить, как вы оцениваете архитектурные изменения в Баку?
– Мне ближе старый Баку. Когда-то «вертикалями» города были минареты. По ним определяли время молитвы. Самое страшное, когда бульдозером разрушают памятники XIX века. Ведь они восхищали не одно поколение людей... Когда-то Баку называли Венецией XX века, однако всё это постепенно исчезает. Конечно, есть и современные здания, которые вызывают уважение, – например, Центр Гейдара Алиева, созданный Захой Хадид.

– Возвращаясь к самому началу: ваш дом хранит огромную историю. Что бы вы хотели, чтобы испытал человек, когда войдет сюда в будущем?
– Этот дом обладает своей притягательной энергетикой. И каждый, кто переступает его порог, не может не ощутить этого. Приезжая в Азербайджан, многие туристы непременно хотят посетить это место. Сюда нужно приехать, чтобы почувствовать его ауру. Надеюсь, так было, есть и будет.
Тамилла Каримова
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:135
Просмотров:135 Эта новость заархивирована с источника 28 Ноября 2025 17:00
Эта новость заархивирована с источника 28 Ноября 2025 17:00 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые