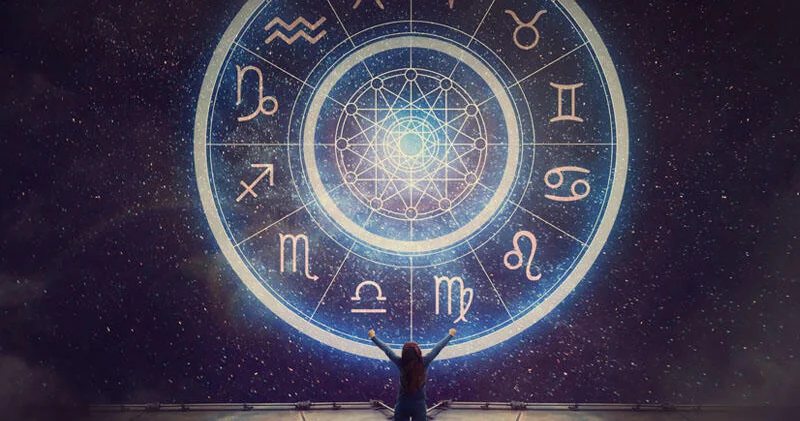Тень дракона на Красной площади Размышления Теймура Атаева
Согласно информации сайта Caliber.az, сообщает Icma.az.
Одним из знаковых итогов прошлой недели стало четкое свидетельство для всего мира укрепления позиций Китая в планетарном масштабе. Причем произошло это, как бы кому данный вывод и не показался неправдоподобным, в том числе благодаря состоявшемуся 9 мая параду в Москве. Нет, конечно, не в самом параде дело. А в том, что, возможно, вопреки идеологической канве Кремля, главным действующим лицом мероприятия оказался непосредственно Председатель КНР Си Цзиньпин. Операторы российского ТВ практически не сводили с него камеры. Глава же Китая, прекрасно ориентируясь в ситуации, внешне спокойно и без лишних эмоций наблюдал за действиями на площади.
А для чего ему нужны были излишние телодвижения, если своим приездом в Москву он, во-первых, показал собственную независимость от каких-либо форм шантажа и давления на Пекин со стороны внешних сил? Во-вторых, посредством предшествующих его пребыванию на параде отдельных высказываний лидеров Китая и России в заявлении для прессы по итогам двусторонних переговоров и ряда пунктов, нашедших место в подписанном сторонами документе «О дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между КНР и РФ, Си Цзиньпин четко показал первенство Пекина в российско-китайских отношениях. Проявилось это, прежде всего, в том, что непосредственно президент России Владимир Путин (параллельно аналогичной констатации и Совместным заявлением) определил Китай одним из творцов победы над фашизмом. Согласимся, что ранее в таком пафосном ключе Москва данный пункт особо не выделяла. Но именно фиксация этого нюанса позволила Путину констатировать совместное и последовательное выступление московско-пекинского тандема «за сохранение исторической правды» о Второй мировой войне (II МВ) «как общей ценности для человечества» и противостояние «попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма». Мало того, как раз «наше общее героическое прошлое и боевое братство» становится надёжным фундаментом «для развития и укрепления российско-китайских отношений».

Вслед за чем Путин с удовлетворением подчеркнул занятие Китаем первого места по товарообороту с Россией, в рамках которого фигурируют взаиморасчеты в рублях и юанях. Тонкость тут в том, что подчеркивание расширения присутствия на российском рынке крупных китайских автоконцернов, производителей промышленного оборудования, микроэлектроники, а также бытовой техники, включая осуществление масштабных совместных проектов в цветной металлургии, химической и целлюлозной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, в освоении космического пространства и т. д., однозначно свидетельствует об успешном и долговременном проникновении на российский рынок Китая.
Естественно, Си Цзиньпин развил озвученные Путиным детали в геополитических интересах Китая, значительно громогласнее назвав Пекин (пусть и наряду с Москвой) одним из «основных театров военных действий II МВ», внесшим «решающий вклад в победу над фашизмом». Однако данная конкретизация шла далеко не просто в контексте высвечивания значимости Китая в тот период. Си Цзиньпин уверенно подчеркнул, что тем самым Китай и Россия «заложили краеугольный камень в послевоенном мироустройстве», в свете чего обе страны сегодня должны непоколебимо «отстаивать ооноцентричную систему международных отношений и основанный на международном праве миропорядок, непрерывно содействуя равноправной и упорядоченной многосторонности мира».
Совместное заявление сторон еще в более конкретном звучании представило все нарративы Си Цзиньпина, подчеркнув, что «разгром нацистской Германии и милитаристской Японии ознаменовал крах притязаний носителей человеконенавистнической идеологии фашизма на мировое господство», в связи с чем в обоих странах «будут вечно помнить праведный подвиг народов Советского Союза и Китая, защитивших мир на планете». Вследствие чего на современном этапе Пекин и Москва продолжат «твердо отстаивать послевоенный мировой порядок во имя построения прекрасного будущего всего человечества», противостоя «гегемонистским интересам пересмотреть итоги II МВ и размыть центральную роль ООН в поддержании мира и безопасности в глобальном измерении» (в скобках отметим, что Путин поддержал позицию Китая в своем заявлении, подчеркнув, что СБ ООН должен и впредь «играть центральную роль в мировых делах»).
Фактически выступив этими формулировками против призывов к реформированию системы управления ряда мировых вопросов посредством СБ ООН, стороны актуализировали пекинскую констатацию о безальтернативности «формирования более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка» как противовеса действиям «в логике гегемонизма и неоколониального мышления». Вот совместный документ и резюмировал необходимость защиты международной системы, центром которой является ООН».
Ну а уже следом была зафиксирована поддержка Москвой еще одной линии, пробиваемой в мировое пространство Пекином, в частности, становления реальностью культурно-цивилизационного многообразия, уважения «уникальных систем ценностей государств и народов» и реализации концепции построения Сообщества единой судьбы человечества, в основе чего – недопущение для кого-либо «обеспечивать свою безопасность за счет и в ущерб безопасности других государств».
Согласимся, что данный нюанс однозначно продемонстрировал полную поддержку Россией не просто внешнеполитического курса Китая, а в целом китайской идеологии на международной площадке. К тому же на фоне уверенной фиксации сторонами продолжения укрепления военного и военно-технического сотрудничества, вплоть до расширения масштабов «и географии совместных учений». Поддержала Москва и включение в Совместное заявление пункта о «неправомерности торговых ограничений», т. к. «введение необоснованных таможенных пошлин серьезно нарушает законные права и интересы других государств и правила ВТО». Параллельно чему Москва и Пекин осудили «гегемонистское стремление отдельных стран Запада и их союзников создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс».

Таким образом, в рамках своего участия на организованном Кремлем 9 мая мероприятии Си Цзиньпин очень грамотно позиционировал Китай важнейшей геополитической единицей, имеющей свой взгляд на построение мирового порядка. Где Россия была представлена государством, принимающим правила игры Пекина. Тем самым косвенно (если не непосредственно) Си Цзиньпин продемонстрировал Вашингтону, что антикитайский вектор внешней политики США может поспособствовать реализации сценария, наличия которого опасались два выдающихся американских аналитика – Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, а именно геополитическое сближение Пекина и Москвы.
По мнению экспертов, данное развитие событий вполне прогнозировалось вашингтонской администрацией. Поэтому еще за неделю до визита Си Цзиньпина в Москву достоянием мировой общественности стала информация о запланированных на 10 мая (аккурат на следующий день после поездки главы Китая в РФ) в Швейцарии американо-китайских переговорах в контексте обсуждения тарифной политики и возможных шагов по деэскалации торговой войны. По итогам которых президент США Дональд Трамп, озвучив желание «видеть, на благо как Пекина, так и Вашингтона, открытие Китая для американского бизнеса», добавил, что «достигнут огромный прогресс», хотя и не раскрыл сказанное.
Переходный, однако, период переживает мировая геополитика. И мы вместе с ней.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:135
Просмотров:135 Эта новость заархивирована с источника 13 Мая 2025 09:24
Эта новость заархивирована с источника 13 Мая 2025 09:24 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2025 Все права защищены
TDSMedia © 2025 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые