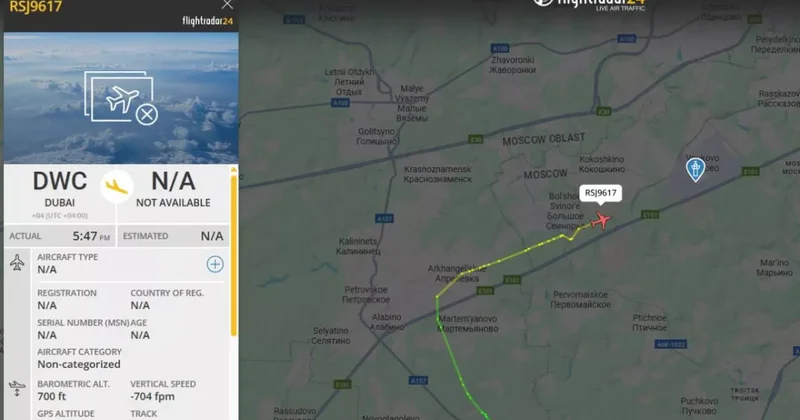Унесенные сетью, или Оторванные от реальности
Icma.az информирует, ссылаясь на сайт Minval.
Виртуальный мир становится больше реального. Он все больше и больше захватывает нашу с вами жизнь, оставляя все меньше пространства и времени для реального бытия. Иными словами, человечество почти оторвано от реальной жизни.
Несомненно, цифровые технологии являются шагом вперед в развитии человечества. И хорошо, если люди грамотно используют продукты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы повысить качество жизни, потому что внедрение ИИ в повседневные процессы жизнедеятельности действительно позволяет улучшить благосостояние и расширить возможности каждого из нас. Но проблема в том, что не все действия с технологиями могут быть безопасны и не все риски пока просчитаны. До сих пор остается малоизученной темой использование VR-технологий (технология, которая погружает пользователя в цифровое пространство так, что оно кажется ему реальным).
Виртуальные скелеты в шкафу
С одной стороны, виртуальная среда позволяет с помощью цифровых аватаров расширить круг общественных отношений, а с другой, вовлекает людей в необычную, полную тайн, виртуальную жизнь, закрытую от посторонних взоров: там пользователи сети могут представлять себя в ином виде, часто совершенно противоположном реальному поведению; там пользователи вводят в заблуждение объектов общения и заблуждаются сами, воображая качества собеседников и домысливая ситуацию, в которой оказались. Это все равно что на ощупь искать выход в темноте. Здесь вам мало помогут зрение и слух, приходится полагаться лишь на собственные ощущения, а они часто обманывают, особенно если человек находится в уязвимом состоянии и нуждается в поддержке и понимании.
Но бывает и наоборот, когда оба собеседника рады заблуждаться и предаваться фантазиям, в том числе сексуальным. Здесь, в виртуальном мире, нет запретов и осуждающих взглядов. И вы подпускаете их все ближе и ближе к себе, раскрывая перед ними свои сокровенные мысли, желания и страдания. Все то, о чем в повседневной жизни вы предпочитаете не распространяться, дабы не стать объектом преследования, позора и насмешек.
То есть виртуальная жизнь превратилась в некую отдушину для людей, поглощенных работой, повседневными заботами, проблемами, бытом наконец. Это социально активная форма досуга взрослых людей различных возрастов, которая стала интересна и подросткам. И тем больше опасности она представляет, потому что мы впускаем в свое жизненное пространство людей, которых в реальной жизни стараемся избегать.
А когда наступает момент прозрения, а он рано или поздно наступает, возникает конфликтная ситуация, и это вам не словесная перепалка с оскорбительными выпадами в адрес близких родственников – это нечто более опасное, способное уничтожить физически. Да, это тяжелые физические последствия виртуальных отношений…
Дело в том, что эффект присутствия достигается очень быстро, человек быстро переносится в условия, которые ему удобны и интересны. Однако за этой скоростью скрывается ряд рисков, которые он может не заметить, либо отнестись к ним легкомысленно или небрежно. Человек ничего не делает физически, не причиняет вред второму участнику общественного отношения руками, все происходит опосредованно, с использованием технических средств, причем очень быстро (достаточно нажатия одной кнопки).
И речь не только об отношениях мужчины и женщины, а в целом, поскольку в виртуальном мире участвует цифровой двойник, а не сам человек, который может быть любым, с абсолютной вариацией свойств и качеств, невозможных в реальной жизни. Мы используем виртуальные пространства для удовлетворения базовых психологических потребностей. В виртуальных мирах оказываются услуги, совершаются сделки, происходит денежный оборот, совершаются правонарушения.
И тут надо сказать, что не все правовые последствия применения этой технологии учтены. Данные отношения нуждаются в введении в теорию уголовного права понятия «виртуальный мир» и «виртуальная среда», чтобы позволить защитить человека от преступного посягательства в будущем.
В частности, необходимо определиться с такими категориями как: «виртуальное пространство», «виртуальная среда», «метасреда», «метапространство»… Необходимость в систематизации данных понятий обоснована тем, что при реализации правомочий субъекта неизбежно возникает вопрос о месте реализации этих правомочий, территории правоприменения. И здесь все не так уж и просто.
Как показывают научные исследования в области цифровых технологий, суть общественных отношений в условиях виртуальной среды сводится к тому, что человек не просто «играет» в симулятор, вкладывая денежные средства в объекты виртуального мира, а проживает жизнь с использованием цифрового двойника в условиях среды, которая ему комфортна.
Для классификации виртуальных миров и создающих их приложений используют аббревиатуры MMOA, MMO, MMORPG, RP, PvP и PvE и т. д. Существует несколько сотен приложений, чьи виртуальные территории так или иначе по своим технологическим характеристикам отвечают признакам виртуального мира. Такие виртуальные миры привлекают пользователей высоким уровнем технического исполнения, большой разновидностью виртуальных предметов, с которыми можно осуществлять различные действия и упростить оборот. Цифровые аватары свободно общаются как вербально, так и не вербально.
Нет четкого механизма защиты
И если рассмотреть правила техники уголовного закона, то вводя в оборот термины «виртуальный мир», «виртуальная среда» как объект уголовно-правовой охраны, необходимо уточнить, что для правильного понимания и глубокого анализа будущего законодательства следует признать, что все термины и словосочетания с использованием «виртуальный» нельзя оценивать как иллюзорный и не существующий. Это реальные материальные объекты, которые могут быть истолкованы с точки зрения права. Эти объекты могут стать объектом посягательства и подлежат охране, также подлежат уголовно-правовому преследованию.
Однако в праве нет четкого механизма защиты и охраны цифровых двойников человека. Необходимо также учесть свойство квазиматериальности: внешняя схожесть с материальной природной и технологической средой и реакция составляющих ее виртуальных объектов на внешнее воздействие.
Все, что происходит с помощью цифровых технологий виртуального пространства, носит вполне материальные очертания и реальное воплощение, анализ воздействия которого приведет к изменению сути правоотношения. По крайней мере должно привести. Говорить о том, что виртуальная среда — это иллюзия в современных условиях, является некорректным. Человек использует реальные механизмы реализации своих правомочий с помощью VR-технологий и нуждается в защите этих прав.
Виртуальная среда и виртуальное пространство требует повышенного внимания к себе со стороны азербайджанских законодателей. Относиться к этому поверхностно непростительно. Потому что криминала в том виде, в котором он был раньше, больше, можно сказать, не существует, но криминал никуда не делся, он трансформировался, обосновавшись в сети. Сегодня в сети хорошо налажена не только незаконная торговля людьми, оружием, наркотиками, и прочим злом, но и беспрепятственно работают различные теневые платежные схемы, а взлом банковских счетов с минимальным риском быть обнаруженными и вовсе превратился в обыденность. Более того, наблюдается рост киберпреступлений имущественного характера.
В сложившихся обстоятельствах вопрос совершенствования правовой базы и повышения уровня технологической грамотности становится не просто актуальным и не терпящим отлагательств, но и вынуждает заниматься этими исследованиями каждый день. Потому как в условиях, вызванных глобальными вызовами, правовая система сталкивается с необходимостью адаптации и трансформации. Проблема заключается в том, что традиционные правовые нормы не успевают за развитием технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, что создает правовые пробелы и неопределенности.
Проще говоря, у нас сегодня нет эффективных правовых механизмов, способных реагировать на вызовы, которые требуют пересмотра существующих норм и практик. Тогда как правовое регулирование цифровых нововведений должно статье задачей не только на сегодня, но и на ближайшие годы.
Уже сейчас использование слабого ИИ ставит перед человеком целый ряд вопросов, в том числе этических. Право, как всегда, отстает от реальности и технического прогресса, а технологии заставляют нас торопиться с поиском ответа на эти вопросы выработкой новых правовых решений, чтобы предусмотреть все правовые риски. Важно, чтобы в таком правовом регулировании были заложены возможные механизмы защиты интересов человека.
К примеру, глава Уголовного кодекса АР «Киберпреступность» все еще содержит лишь пять статей (незаконное проникновение в компьютерную систему, незаконная добыча компьютерной информации, незаконное воздействие на компьютерную систему или информацию, оборот средств для совершения киберпреступности, подделка компьютерной информации).
Не говоря уже о том, что незаконные действия преступных элементов, скрывающихся в сети под левыми профилями, часто остаются безнаказанными, тогда как приводят к самым тяжким последствиям для физического лица, ставшего жертвой этих манипуляций. А к тем действиям в сети, которые в старые добрые времена квалифицировались бы как нарушение общественного порядка, и вовсе правоприменяются несоответствующие статьи УК АР, поскольку есть субъект преступления и есть неподобающее поведение, которое очень даже негативно влияет на общественное восприятие, а потому должно быть наказано, но нет им четкого определения и механизма наказания.
А между тем значительное количество изменений, которое цифровая трансформация вносит в систему государственного управления, а также запоздалость нормативного регулирования приводит к формированию скептического отношения к диджитализации права. Нормативное регулирование в сфере информационных технологий мешает, так как тормозит технический прогресс.
Да, действующее законодательство заметно отстаёт от стремительно меняющихся технологий. Некоторые законы формально приняты, но либо не подкреплены чёткими подзаконными актами, либо не учитывают специфику современных IT-трендов — например, в сфере криптовалют, телемедицины или беспилотных систем.
Например, эксперты говорят, что Закон «Об электронной торговле» от 2005 года уже устарел: многие аспекты вроде защиты прав потребителей в e-commerce или механизмов электронных платежей прописаны недостаточно чётко.
Закон о персональных данных формально принят, однако не хватает подзаконных актов и стандартов. Из-за этого не все госструктуры и компании соблюдают необходимые меры безопасности, снижая доверие к цифровым сервисам.
Статус криптовалют до сих пор «подвешен»: нет конкретных налоговых норм, нет механизмов защиты участников рынка. Поэтому многие блокчейн-проекты регистрируются за рубежом.
Законодательство не успевает за реалиями дистанционных консультаций и онлайн-клиник. Непонятно, как сертифицировать врачей и платформы, как хранить медицинские данные в цифровом формате.
Список недостатков правогого регулирования можно продолжить, но цель статьи не в том, чтобы просто указать на пробелы в законодательстве, а в том, чтобы, наконец, заставить закон эффективно работать и защищать. А для этого законодателям надо проявить активность.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:210
Просмотров:210 Эта новость заархивирована с источника 08 Апреля 2025 15:05
Эта новость заархивирована с источника 08 Апреля 2025 15:05 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены
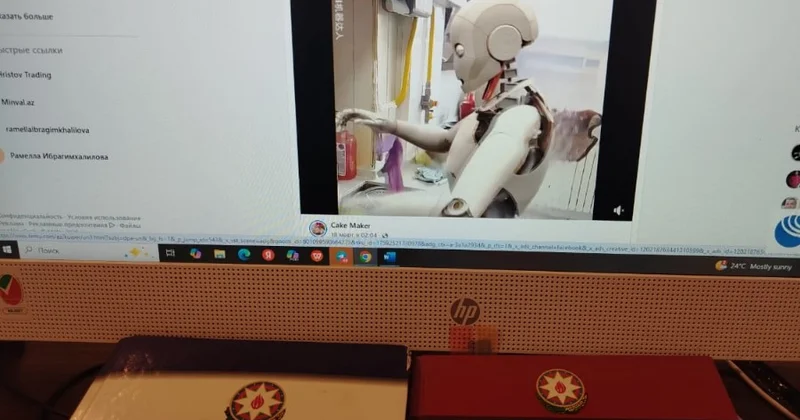







 Самые читаемые
Самые читаемые