Человек, который не подчинялся ни одной системе и поэт и гражданин
Как сообщает Icma.az, ссылаясь на сайт Haqqin.
24 мая исполняется 85 лет со дня рождения Иосифа Бродского — поэта, мыслителя, изгнанника, гражданина Вселенной. Его подлинная значимость заключалась в том, что он не подчинялся ни одной системе, не вписывался ни в одну идеологию, не умещался ни в какие ограничения. Он был, как магнитное поле - невидим, но ощутим, и всегда в движении.
Бродский покинул СССР с одним чемоданом, но это не было ни бегством, ни добровольной эмиграцией, ни капитуляцией. Это было выдворение — со стороны системы, не способной выносить тех, кто мысленно свободен. Его приняли на Западе, но не обожествили. Он, как никто другой, знал: можно покинуть родину, но нельзя покинуть язык. Он говорил, что хотел бы умереть в Ленинграде. И его ждали. Но он не вернулся. Потому что советский Ленинград умер, а буржуазный Санкт-Петербург был ему чужд, как может быть чужд поэту любой город, в котором поэзия слов заменена торжеством рынка.

Бродский утверждал: искусство — и прежде всего литература — формирует в человеке чувство уникальности, превращает его из стадного животного в личность
Присуждение ему Нобелевской премии в 1987 году стало и признанием, и частью политической игры. В своей лекции Бродский говорил о нацизме и сталинизме, но обошёл молчанием Хиросиму, Нагасаки, маккартизм, Ку-клукс-клан, Вьетнам, Гренаду, «Немецкую осень», Гватемалу… Он молчал. Но у поэта может быть право на молчание, если оно — личный выбор, а не политический расчет. В любом случае, он никогда не считал Пиночета ступенью на пути к свободе. Но и не считал нужным превращать свои выступления в политические декларации.
В своей жизни и поэзии Бродский исходил из того, что этика проистекает из эстетики. Для него человек был прежде всего существом эстетическим, а уже потом — этическим. Не случайно он называл книгу «продуктом взаимного одиночества писателя и читателя». В этом одиночестве возникает подлинный диалог, обостряется совесть, рождается ответственность.
Он верил: человек, обладающий чувством формы, не может быть нравственным уродом. По Бродскому слова — это плоть этики, а литература — её храм.
Характерен эпизод. Один из друзей пришёл к нему в реанимацию и рассказал, что Евтушенко в одном из стихотворений выступил против колхозов. Ответ Бродского был мгновенным: «Если Евтушенко против колхозов — тогда я за колхозы». Это не про сельское хозяйство, а про нравственный рефлекс. Про отторжение фальши, которая, даже меняя маски, остаётся фальшью. Ему была чужда этика «заказных просветлений», будь то порицание или прославление — как у Расула Гамзатова, который сначала поносил имама Шамиля, а потом - уже по заказу - восхвалял его.

Нравственный рефлекс Бродского: "Если Евтушенко против колхозов — тогда я за колхозы"
В своей Нобелевской лекции Бродский утверждал: искусство — и прежде всего литература — формирует в человеке чувство уникальности, превращает его из стадного животного в личность. И эта личность, сделав эстетический выбор, неизбежно делает и этический. Для него искусство было не украшением, а инструментом внутренней навигации, компасом духа.
«Самая страшная угроза для писателя, — говорил он, — не в преследовании, а в том, чтобы быть загипнотизированным государством». То есть в добровольной слепоте. В иллюзии, что «в Багдаде всё спокойно». Или, как у Пушкина: «Я сам обманываться рад». Это — измена самому себе.
Бродский выступал против идеи о том, что литература должна говорить языком улицы. «Это не улица должна диктовать литературе язык, — настаивал он, — а литература обязана поднимать язык улицы до своего уровня». Толпа — это шум. Литература — это голос. И голос этот должен звучать выше и яснее.
Он утверждал: если бы правителей выбирали не по предвыборным программам, а по тому, как они относятся к Достоевскому, Стендалю или Диккенсу, мир стал бы человечнее. Потому что литература — куда более надежный источник моральных гарантий, чем догматы религии или теории философии.

Бродский выступал против идеи о том, что литература должна говорить языком улицы
Он сожалел: ни один уголовный кодекс не предусматривает наказания за преступления против литературы. А самое тяжкое из них — не запрет и не сожжение книг. Самое страшное — это равнодушие. Нежелание читать. Потому, что если преступление против литературы совершает один человек, он платит собственным одиночеством, а если целый народ, то он расплачивается историей.
«Человек, читавший Диккенса, — говорил Бродский, — с меньшей вероятностью выстрелит в ближнего ради призрачной идеи, чем тот, кто его не читал». Это не пафос, это аксиома. Потому что литература учит видеть другого человека не как функцию, а как вселенную. Не как средство, а как цель.
Он говорил не о дипломах, не об образованности, а о чтении, как об акте спасения. Потому что человек, вооружённый только идеологией, легко впадает в восторг от убийства. А человек, вооружённый литературой, будет долго смотреть на другого — и, возможно, не решится.

Вкус формирует мораль, а мораль — это то, что отличает человека от механизмов, государств и алгоритмов
Бродский был не просто поэтом. Он был убежищем для языка в эпоху его тотального разрушения. И потому сегодня, в мире, где понятие «слово» обесценилось, а определение «эстетика» служит интересам маркетинга, его голос звучит особенно ярко.
Что из всего этого следует?
Что эстетика формирует вкус. Вкус формирует мораль, а мораль — это то, что отличает человека от механизмов, государств и алгоритмов. Плохая литература — это обнулённая совесть. А тот, кто делает правильный эстетический выбор, неизбежно окажется на стороне этически верной.
И пусть современные медиа способны подделывать реальность и симулировать смысл, выбор все равно остаётся. Мы — это то, что мы читаем. Один тянется к Камю, другой — к телешоу. Один ищет смысл в Стендале, другой — в ленте соцсетей. И в этом выборе — разные этики, разные судьбы, разные истории.
Иосиф Бродский верил, что литература способна спасти мир. Пусть не весь и не сразу, но хотя бы человека. А это уже немало…
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: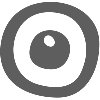 Просмотров:180
Просмотров:180 Эта новость заархивирована с источника 24 Мая 2025 09:40
Эта новость заархивирована с источника 24 Мая 2025 09:40 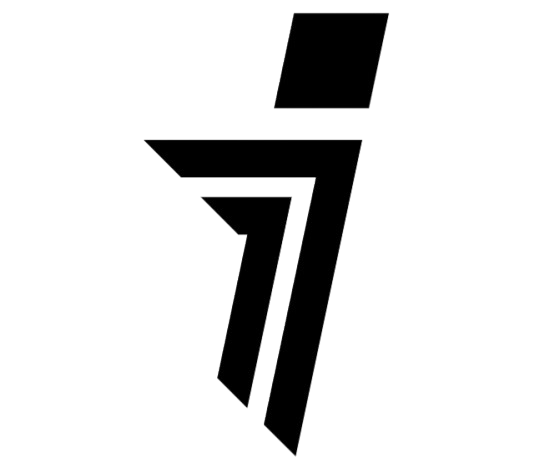



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода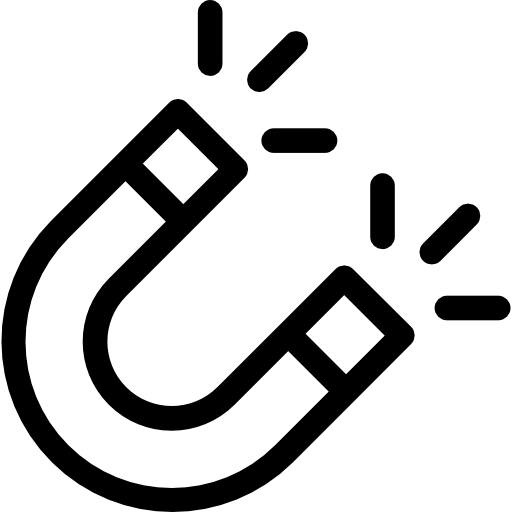 Магнитные бури
Магнитные бури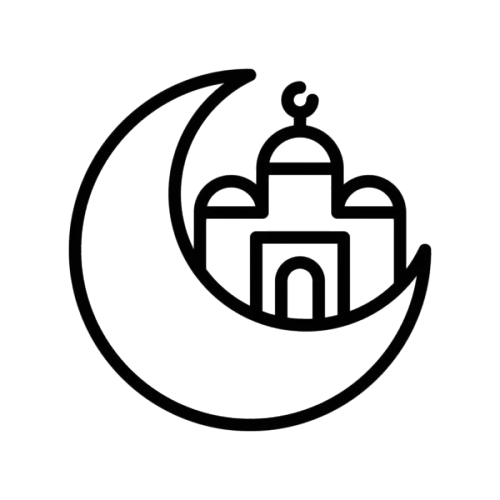 Время намаза
Время намаза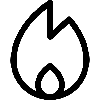 Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы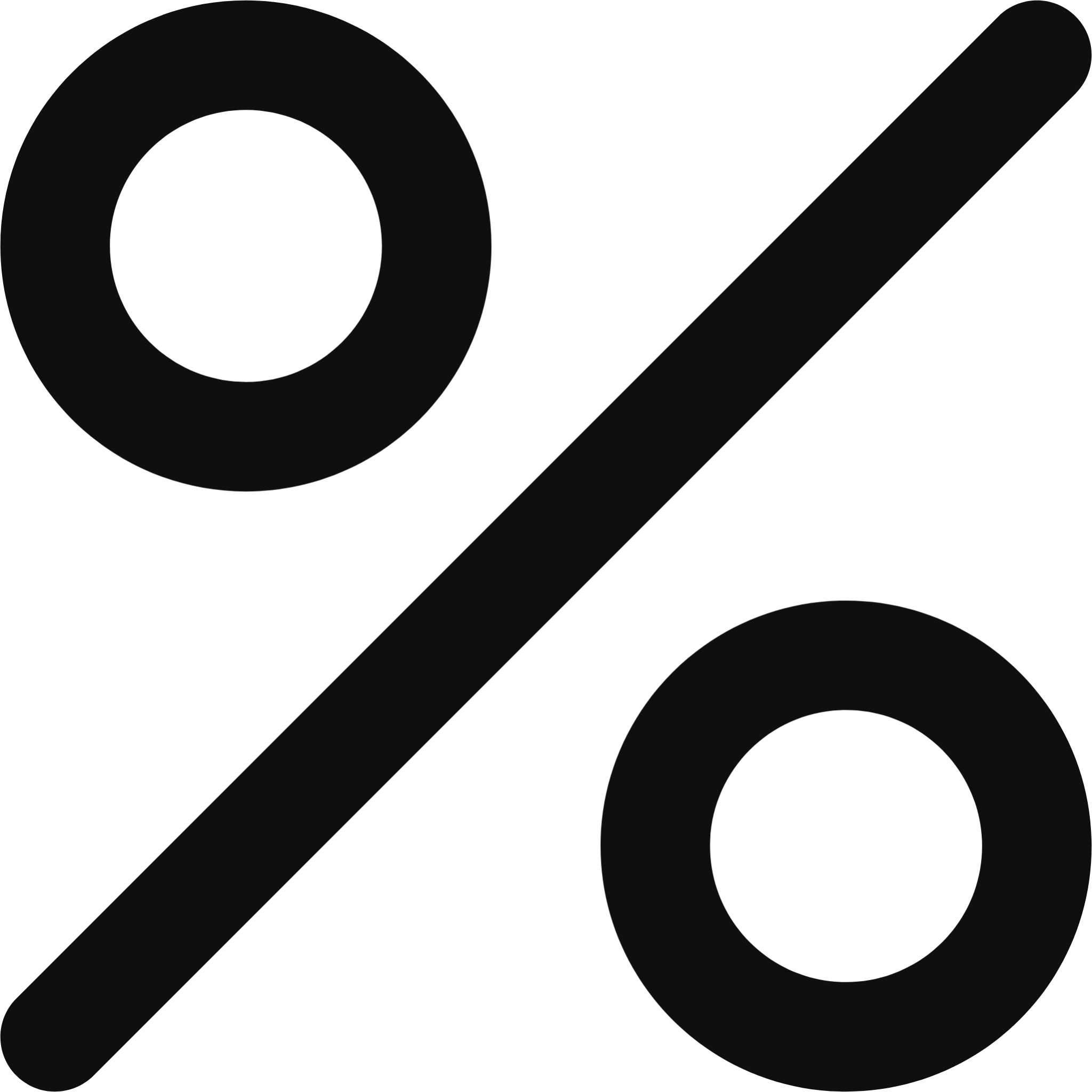 Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор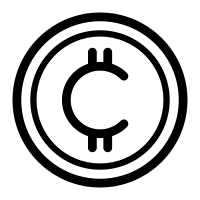 Курс криптовалют
Курс криптовалют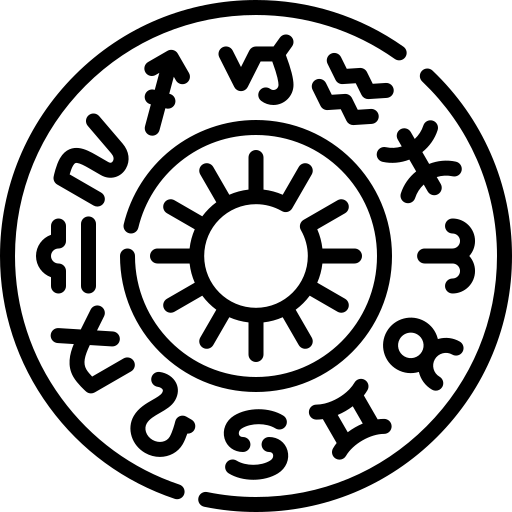 Гороскоп
Гороскоп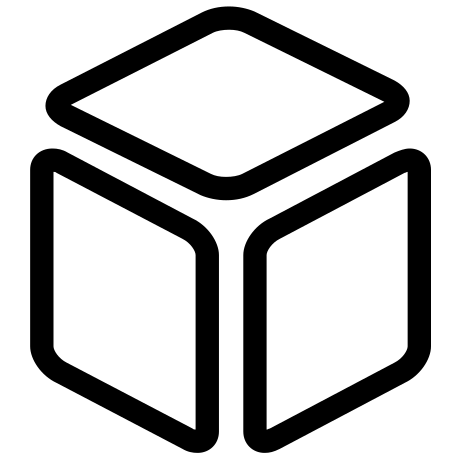 Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены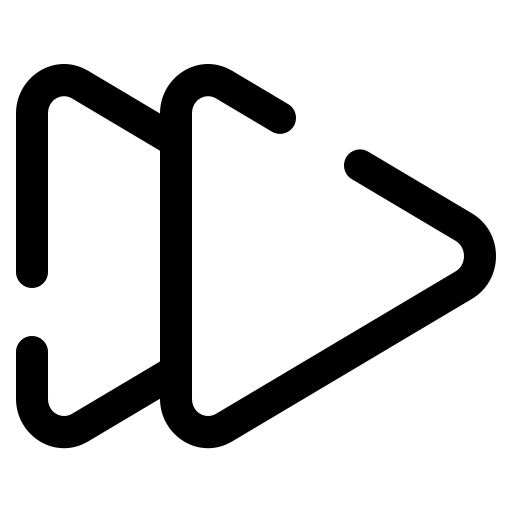


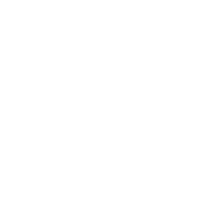
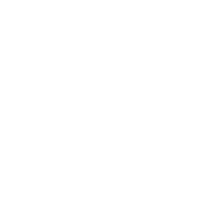


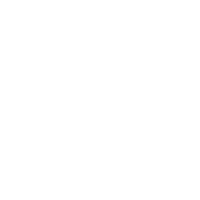

 Самые читаемые
Самые читаемые



















