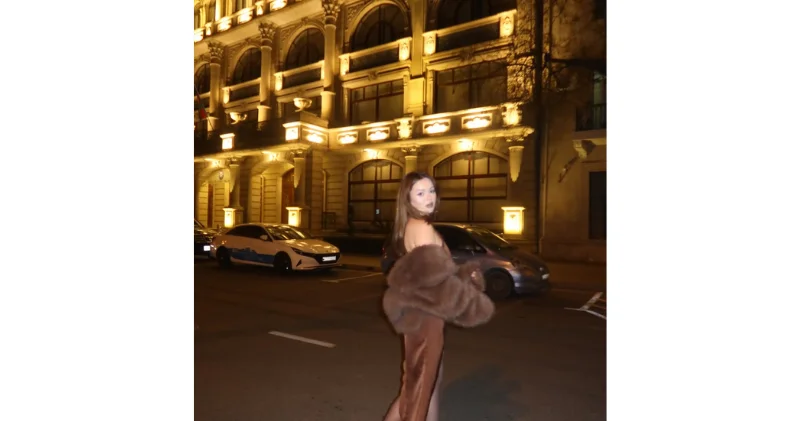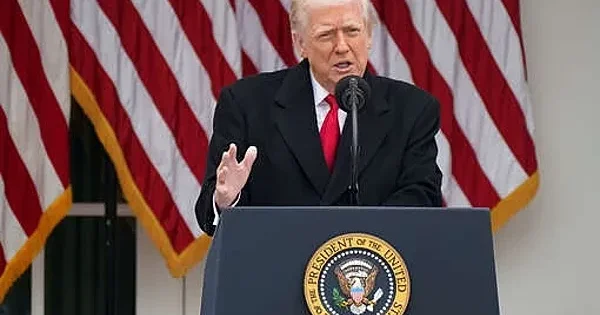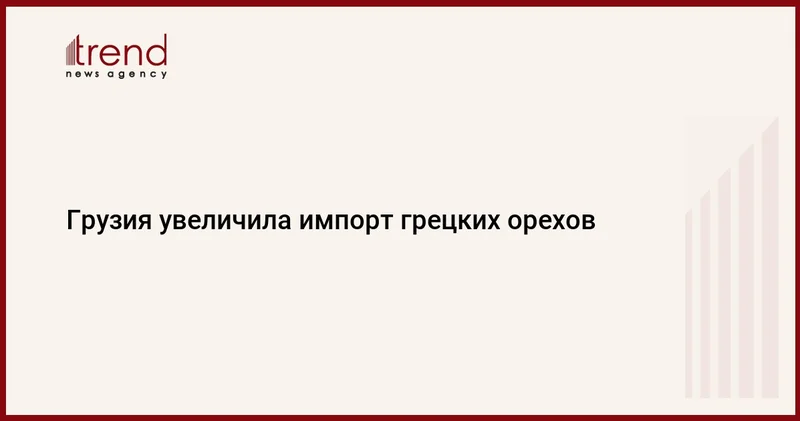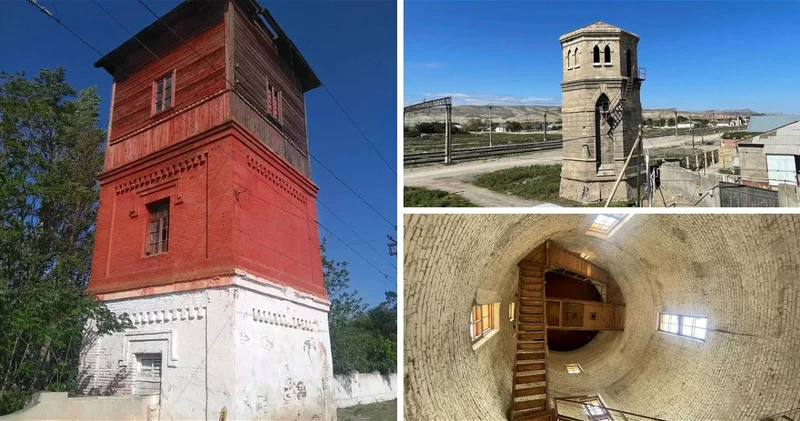Урановый фактор: энергетика между дефицитом и политикой АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли
По информации сайта Day.az, передает Icma.az.
Автор: Азер Ахмедбейли
В ядерной отрасли может начаться кризис из-за истощения мировых запасов урановых рудников, сообщила в начале сентября газета The Financial Times со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации. В нем отмечается, что в настоящее время быстро растет спрос на природный уран и продукты топливного цикла. Поскольку существующие рудники в следующем десятилетии столкнутся с истощением запасов, необходимость в новых поставках природного урана на мировые рынки становится всё более острой.
Проблема заключается в том, что добыча урана - процесс долгий, и диапазон разработки новых рудников оценивается примерно в 10-20 лет от открытия до серийной добычи. Поэтому когда говорят о кризисе в урановой отрасли, речь не идет о физической нехватке ресурсов, а о риске хронического дефицита примерно после 2030 года из-за длительных сроков ввода месторождений и узких мест топливного цикла.
Другими словами, формально урана на Земле много: экономически извлекаемые ресурсы составляют около 7,9 млн. тонн ("консервативный" сценарий - 5,93 млн. тонн) по данным Red Book-2024 (NEA/IAEA). Однако из-за длительных сроков разработки может образоваться временной разрыв в поставках на мировые рынки. Поэтому вопрос упирается в геологическую разведку и скорость инвестиций в разработку.
На этот ресурсный вызов накладывается геополитический фактор. Полномасштабная война в центре европейского континента изменила глобальный энергетический ландшафт, разрушила прежние цепочки поставок энергоресурсов и подтолкнула многие страны к укреплению собственной энергетической безопасности. Отказавшись от российских углеводородов, европейские государства ускоряют переход к возобновляемым источникам энергии, но одновременно усиливается интерес к атомной энергетике как низкоуглеродному источнику.
Но и здесь, в сфере атомной энергетики и производства ядерного топлива, как и в вопросе с углеводородами, фактор России играет значительную роль.
Дело в том, что Российская Федерация имеет довольно небольшие объемы годовой добычи уранового сырья по сравнению с такими странами, как Казахстан, Намибия, Канада или Австралия, и не играет в этой сфере критической роли. Но для получения ядерного топлива для реакторов уран должен пройти два важнейших этапа ядерного топливного цикла - конверсии и обогащения, и Россия в этой области занимает лидирующие позиции в мире, так как не все производители ядерной энергии обладают соответствующими технологиями или достаточными мощностями. По статистике, Россия обеспечивает около 40% конверсии урана в мире и 46% обогащения.
Но и это не все. Влияние России проявляется не только в производстве ядерного топлива, но и в контроле над цепочками поставок, в частности, из Центральной Азии.
В настоящее время одними из наиболее значимых стран по объему доказанных запасов и годовой мощности добычи урана являются Казахстан и Узбекистан. Казахстан - мировой лидер по производству природного урана (40 % всей глобальной добычи), а Узбекистан - пятый в мировом рейтинге. Вместе они формируют почти половину предложения на мировом рынке урана.
До недавнего времени весь природный уран из этих стран в Европу поступал через российскую территорию (порт Санкт-Петербург) по лицензии "Росатома". Это позволяло Москве сохранять хоть и косвенный, но контроль над значительной частью поставок, включая крупнейшую в Европе французскую атомную промышленность, где доля сырья из Центральной Азии превышала 40%.
Понимая уязвимость такой зависимости, страны-лидеры мировой атомной отрасли (Канада, Франция, Япония, Соединенное Королевство и США) пытаются минимизировать роль России на международном рынке ядерного топлива, точь-в-точь как это произошло с российской нефтью и газом, и логистика через Каспий и Южный Кавказ стала частью этих усилий.
В этом стремлении их интересы совпали с интересами Казахстана и Узбекистана - вывести уран на европейский рынок без посредничества Москвы, снизив зависимость от российских лицензий и инфраструктуры, и обеспечив для своих поставок новый маршрут, которому не будут угрожать международные санкции.
Несколько лет назад начались тестовые поставки по Транскаспийскому международному транспортному коридору, проходящему через акваторию Каспийского моря и страны Южного Кавказа на европейский континент.
По данным казахстанского национального оператора по экспорту и импорту урана "Казатомпром", действующее разрешение на транзит урановой продукции через Азербайджан установлено на уровне до 3,5 тыс. тонн, и компания продолжает работу по увеличению квоты. В анализе компании указывается, что "в течение 2023 года через Каспий было перевезено 228 контейнеров урана", и что 64 % всех отгрузок из Казахстана в западные страны в том же году были осуществлены через Транскаспийский маршрут, что демонстрирует - альтернативная логистика уже в деле.
Транскаспийский маршрут ценен для европейцев, так как, в отличие от Канады, Намибии или Австралии, удалённых на тысячи километров, центральноазиатские месторождения находятся ближе к европейским рынкам и вписываются естественным образом в региональные транспортные коридоры.
В условиях роста мирового спроса на уран значение стабильного доступа к ресурсам Центральной Азии будет только расти, и в этом контексте маршруты через Каспий и Южный Кавказ становятся не простой альтернативой, а условием обеспечения европейской энергетической автономии.
Таким образом, кризис урановой отрасли - это не только вопрос геологии и инвестиций, но и международной политики. Длительные сроки ввода месторождений, дефицит мощностей конверсии и обогащения, перекраивание логистики под давлением санкций смещают эту проблему в плоскость энергетической безопасности.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:122
Просмотров:122 Эта новость заархивирована с источника 04 Октября 2025 22:40
Эта новость заархивирована с источника 04 Октября 2025 22:40 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые