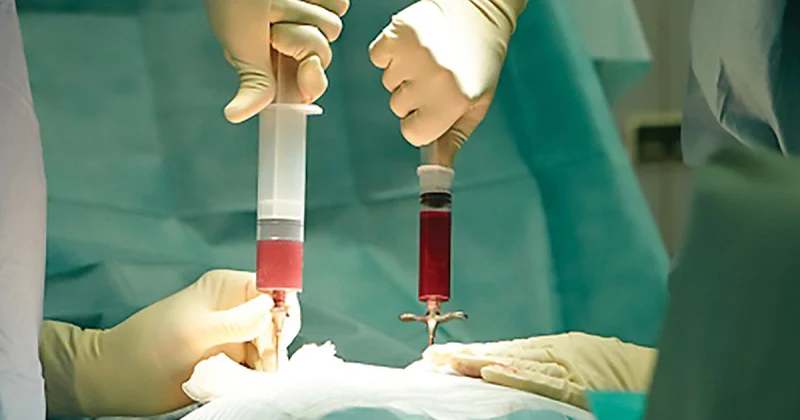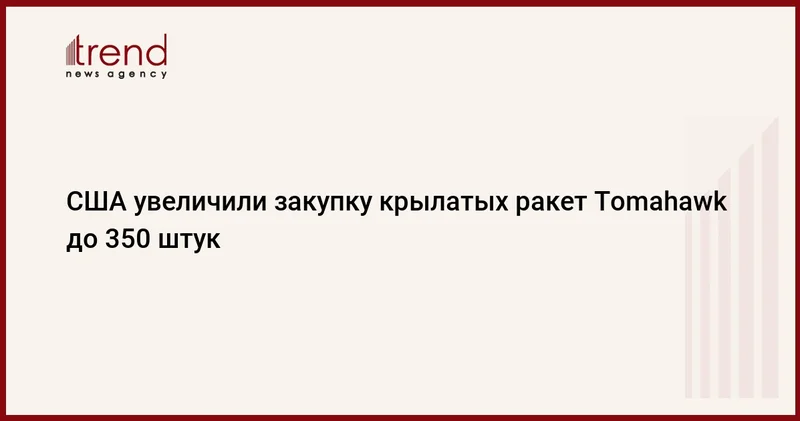Концептуально исчерпанная революция наша аналитика
По данным сайта Haqqin, передает Icma.az.
На фоне аномальной жары, охватившей Европу, максимальные политические температуры, бесспорно, фиксируются сегодня в Сербии.
Белград оказался в эпицентре не только климатического, но и острого внутриполитического кризиса. С 28 июня политическая ситуация в стране вошла в фазу эскалации: оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов, а правящий режим трактует протесты, как элемент гибридной интервенции и попытку инициировать в Сербии очередную «цветную революцию» по внешнему сценарию.

Оценить перспективу дальнейшего развития ситуации сложно. Протесты в Белграде не являются спонтанной реакцией на конкретную трагедию
Выбор даты 28 июня был в качестве отправной точки протестной кампании не случаен и несёт в себе мощный символический заряд. Именно в этот день в 1389 году на Косовом поле сербский воин Милош Обилич смертельно ранил султана Мурада. А спустя 525 лет, 28 июня 1914 года, сербский националист Гаврило Принцип совершил в Сараеве политическое убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, спровоцировав цепь событий, приведших к Первой мировой войне.
Историческая память этих трагических и героических дат глубоко укоренена в сербском национальном самосознании, и её актуализация в день начала протестов придаёт происходящему в стране дополнительные коннотации «национальной судьбоносности».
В то же время, в отличие от приведенных выше исторических эпизодов, когда сербы сражались с внешними агрессорами — турками или австрийцами, — сегодня политическая борьба ведётся внутри самого сербского социума. По сути, речь идёт о столкновении двух конкурирующих буржуазных фракций - компрадорской и национальной.

Выбор даты 28 июня был в качестве отправной точки протестной кампании не случаен и несёт в себе мощный символический заряд. Именно в этот день в 1389 году на Косовом поле сербский воин Милош Обилич смертельно ранил султана Мурада
Первая ориентирована на интеграцию в евроатлантические структуры, воспринимая транснациональный капитал и нормы западного неолиберализма, как модель для институционального развития Сербии. Вторая же, опирающаяся на идею суверенитета и ревизии итогов балканского передела 1990-х годов ХХ века, рассматривает Запад, как источник угрозы национальной идентичности и государственного суверенитета.
Характерно однако, что обе группы равно удалены от интересов широкой социальной базы и эксплуатируют масс-мобилизацию исключительно, как инструмент укрепления собственных политических позиций.
До прихода к власти Александра Вучича политическое доминирование в Сербии принадлежало прозападной элите. Его президентство трансформировало конфигурацию элитного консенсуса: государственный курс начал смещаться к более автономной внешней политике, сочетающей прагматизм с умеренным евразийским вектором. При этом сохраняется амбивалентность — официальное стремление к европейской интеграции сочетается с усилением связей с Китаем и Россией, а внутри самой Сербии — с наращиванием механизмов авторитарного управления.

Именно Запад в 2000 году осуществил мягкий переворот по «цветному сценарию», приведший к свержению Слободана Милошевича... и прихода к власти либерала Воислава Коштуницы
Текущие протесты, инициированные студенческими организациями, демонстрируют симптомы политического когнитивного диссонанса. Противники Вучича, декларирующие приверженность европейским либеральным ценностям, апеллируют к поддержке тех же сил, которые в 1990-х осуществили насильственную балканизацию Югославии, пролив реки крови и расчленив Социалистическую Федеративную Республику Югославию (СФРЮ) на семь новых субъектов. Именно Запад в 2000 году осуществил мягкий переворот по «цветному сценарию», приведший к свержению Слободана Милошевича. А уже в 2001 году при прозападно ориентированном премьер-министре Зоране Джинджиче Милошевич в обмен на финансовую поддержку и политическое признание был выдан Гаагскому трибуналу. Эта политическая трансакция стоила Джинджичу жизни: в 2003 году он был убит. Попытка оппозиции спустя четверть века воспроизвести ту же матрицу, но теперь уже в виде так называемой «контейнерной революции», выглядит не только парадоксально, но и концептуально исчерпанной.
В последние дни Белград функционирует в режиме частичной транспортной блокады. Оппозиционные активисты перекрывают магистральные артерии, инициируют попытки марша к зданию Скупщины, а полиция отвечает на протесты жёсткими мерами подавления. По неофициальным оценкам, в первый день протестов на улицы вышли до 140 тысяч человек, тогда как официальные источники фиксируют более скромную цифру — около 35 тысяч.
Как и в ряде других «цветных» сценариев, протестная активность выстраивается вокруг инцидента, не затрагивающего фундаментальных противоречий самой системы. Такой триггерный инцидент в Сербии произошёл 1 ноября 2023 года — тогда отправной точкой для протестной мобилизации стало обрушение крыши железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде, унёсшее жизни шестнадцати человек. Акцент на коррупционную неэффективность властей и управленческую некомпетентность стал формальным поводом для наращивания давления на правящий режим.

А уже в 2001 году при прозападно ориентированном премьер-министре Зоране Джинджиче Милошевич в обмен на финансовую поддержку и политическое признание был выдан Гаагскому трибуналу. Эта политическая трансакция стоила Джинджичу жизни
Однако за фасадом борьбы с коррупцией и за права человека скрывается типичная схватка за перераспределение власти в условиях авторитарно-гибридной модели управления. Ни одна из сторон не предлагает структурной трансформации системы — лишь смену фигур в её верхних эшелонах, что делает риторику обеих фракций инструментальной и электорально-ориентированной.
Медиа-картина конфликта в Сербии также отражает острый процесс поляризации. Такие проправительственные издания, как «Večernje novosti», квалифицируют протестующих как «террористов» и утверждают, что «контейнерная революция» была сорвана на ранней стадии.
Спикер парламента Ана Брнабич акцентирует внимание на том, что протестующие не сумели мобилизовать широкие массы населения, а потому «испытывают разочарование и ненависть к собственному народу». А президент Вучич в своём обращении заявил, что впервые в новейшей истории Сербии протестные лидеры открыто призывали к насилию.
Западные медиа, напротив, транслируют диаметрально противоположный нарратив. Влиятельная немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung обвиняет Вучича в авторитаризме, называя его «политически несостоятельным».

Как и в ряде других «цветных» сценариев, протестная активность выстраивается вокруг инцидента, не затрагивающего фундаментальных противоречий самой системы. Такой триггерный инцидент в Сербии произошёл 1 ноября 2023 года — тогда отправной точкой для протестной мобилизации стало обрушение крыши железнодорожного вокзала
Телеканал Sky News фокусируется на политической эволюции Вучича - от ультранационалиста к «псевдо европейцу», подавляющему гражданские свободы.
Лондонская The Independent критически отзывается о мобилизационных усилиях власти Сербии, но приветствует аналогичные действия оппозиции.
Подобная асимметрия в трактовках иллюстрирует политическую ангажированность западных информационных платформ и их идеологическое предпочтение оппозиционной повестке. Согласно этой логике, демократическое право на протест принадлежит только прозападной части политического спектра. Тогда как правящая коалиция априори исключается из легитимного поля сопротивления.
Тем временем журналист Петар Гаич в издании «N1» пишет о «нарастающем гневе народа», хотя социологические данные и уличная динамика указывают на ограниченность протестной базы и отсутствие общенациональной мобилизации.

Западные СМИ отнимают право Вучича на демократическую борьбу
Оценить перспективу дальнейшего развития ситуации сложно. Протесты в Белграде не являются спонтанной реакцией на конкретную трагедию. Это проявление глубинной, кумулятивной стратегии, основанной на перманентной политической эрозии суверенных режимов, которые балансируют между евроинтеграцией и геополитическим нейтралитетом. Ситуация в Сербии — часть широкой дуги нестабильности, охватывающей постсоциалистическое пространство и являющейся ареной борьбы за цивилизационную ориентацию.
Таким образом, выбор, стоящий сегодня перед Сербией — это не просто внутриполитический спор, а борьба за геополитический вектор, за культурную идентичность и за право страны остаться субъектом, а не объектом международной политики.
 Другие новости на эту тему:
Другие новости на эту тему: Просмотров:138
Просмотров:138 Эта новость заархивирована с источника 02 Июля 2025 13:32
Эта новость заархивирована с источника 02 Июля 2025 13:32 



 Войти
Войти
 Online Xəbərlər
Online Xəbərlər Новости
Новости Погода
Погода Магнитные бури
Магнитные бури Время намаза
Время намаза Калькулятор колорий
Калькулятор колорий Драгоценные металлы
Драгоценные металлы Конвертор валют
Конвертор валют Кредитный калькулятор
Кредитный калькулятор Курс криптовалют
Курс криптовалют Гороскоп
Гороскоп Вопрос - Ответ
Вопрос - Ответ Проверьте скорость интернета
Проверьте скорость интернета Радио Азербайджана
Радио Азербайджана Азербайджанское телевидение
Азербайджанское телевидение О нас
О нас



 TDSMedia © 2026 Все права защищены
TDSMedia © 2026 Все права защищены








 Самые читаемые
Самые читаемые